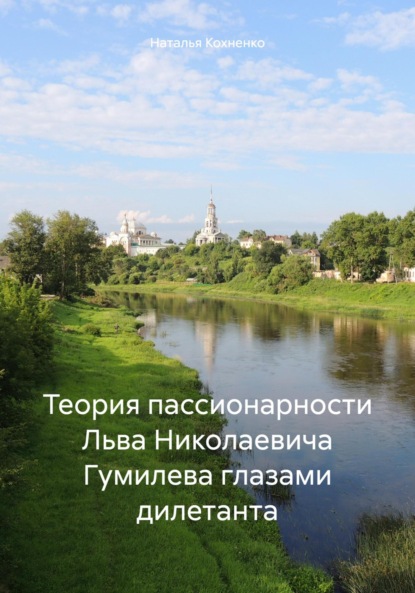
Полная версия:
Теория пассионарности Льва Николаевича Гумилева глазами дилетанта
Распространение получили не только грамотность, но и вообще разностороннее образование среди знатных женщин. Среди дошедших до нас имен наиболее известно имя Ефросиньи Полоцкой, которая сама писала книги и переводила религиозно-философскую литературу на славянский язык, занималась просветительской деятельностью. Прекрасно образованы были и дочери Ярослава Мудрого.
Одним из династических браков времен Ярослава было замужество Анны Ярославны, вышедшей за французского короля Генриха I. Наталья Львовна Пушкарева, доктор исторических наук и основоположница исторической феминологии и гендерной истории в отечественной науке, так описывает ее жизнь после замужества: «Первые годы жизни в Париже не были радостными для Анны. „В какую варварскую страну ты меня послал; здесь жилища мрачны, церкви безобразны и нравы ужасны“ – эти строки из письма Анны к отцу в Киев цитируют французские исследователи. Но достоверных данных о ее жизни в Париже в 1051–1060 гг. нет. К этому времени относится лишь письмо к ней римского папы Николая II (1059 г.), в котором, в частности, говорится: „Слух о ваших добродетелях, восхитительная дева, дошел до наших ушей, и с великой радостью слышим мы, что вы выполняете в этом очень христианском государстве свои королевские обязанности с похвальным рвением и замечательным умом“. О растущем авторитете Анны во французском обществе говорит и тот факт, что ей было предоставлено право ставить свою подпись на документах государственной важности. Ее четкие, ясные, написанные знакомым „уставом“ буквы стоят рядом с крестами неграмотных королевских чиновников, придворных и самого короля – Генриха I. Эта привилегия Анны была уникальным явлением для французского королевского двора XI в. Анна знала латынь – официальный язык того времени, на котором писало и говорило образованное общество в Западной Европе. Кстати, письмо папы к Анне было написано по-латыни. Но коронованная киевлянка, живя вдали от родины, помнила кириллическое правописание, подписывалась и на родном языке» [86].
Итак, на правление Ярослава Мудрого приходится расцвет Древнерусского государства. Ярослав был озабочен и тем, что станет с Русью после его смерти. Он наставлял своих сыновей: «Вот я отхожу из этого света, дети мои; любите друг друга, потому что вы дети одного отца и матери. Если будете жить в любви друг с другом, то Бог будет среди вас, покорит вам всех врагов, и будете жить мирно; если же станете ненавидеть друг друга, жить в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов, которую они достали себе трудом великим. Но живите мирно, слушаясь брат брата» [82]. Однако после смерти Ярослава в 1054 году усобица повторилась.
Справедливости ради надо сказать, что произошло это далеко не сразу, и не властолюбие сыновей Ярослава было тому причиной. Первые годы их общего правления протекали достаточно мирно, но постепенно обстановка стала накаляться: пришли в движение многочисленные родственники (дядья, племянники), активизировались простые киевляне, решая, кому быть князем в Киеве. По мнению Гумилева, и в этом случае за княжеской усобицей прослеживаются интересы различных групп и идеологий, а не только властные амбиции отдельных князей.
Нельзя при этом сказать, что князья не хотели между собой договориться, но на постоянной основе достичь этого никак не получалось. На какой-то период механизмом урегулирования конфликтов и выработки общих решений стали княжеские съезды. Однако их соглашения не были долговечны. Так, Любеческий съезд 1097 года «поделил все русские волости между князьями на началах справедливости, утвердив правило: „каждо да держит отчину свою“. Но справедливость была вскоре попрана главным ее блюстителем Святополком, который, действуя заодно с Давидом Игоревичем, ослепил одного из князей изгоев[25] Василька» [80].
Далее предоставим слово Евгению Юрьевичу Спицыну: «Весной 1098 года, когда весть об этом жутком злодеянии разошлась по всей Руси, Владимир Мономах и черниговские князья, сговорившись на Городецком съезде, пошли походом на Киев, силой заставили великого князя Святополка примкнуть к их коалиции и вместе двинулись походом на Волынь. До нового кровопролития дело не дошло, поскольку князь Давыд покаялся в своем злодеянии и, отпустив ослепленного им Василька, „створяше с нимъ миръ“. Но вскоре на Волыни и в Галиции началась новая междоусобная вражда, в ходе которой Володарь и Василько Ростиславичи захватили все волынские города и изгнали Давыда с отцовского стола, а сам он бежал „в ляхи“» [112]. Для наведения порядка потребовался очередной съезд.
Ключевский писал: «По смерти Ярослава власть над Русской землей не сосредоточивается более в одном лице: единовластие, случавшееся иногда до Ярослава, не повторяется; никто из потомков Ярослава не принимает, по выражению летописи, „власть русскую всю“, не становится „самовластцем Русской земли“. Это происходит оттого, что род Ярослава с каждым поколением размножается все более и земля Русская делится и переделяется между подраставшими князьями» [43].
Тем не менее, относительно спокойный период на Руси наступает еще один раз. После смерти нелюбимого киевлянами Великого князя Святополка и народных беспорядков в Киеве киевское городское вече призывает на великокняжеский стол Владимира Мономаха, прозванного так по имени своего византийского деда со стороны матери. «Услыхав это, Владимир пошел в Киев; митрополит Никифор, епископы и киевляне встретили его с великою честию; Мономах сел на стол отца своего и дедов своих; и все люди были рады, и мятеж утих» [111]. А вот как характеризует С. М. Соловьев самого Владимира: «…братолюбец и нищелюбец и добрый страдалец за Русскую землю; он просветил ее, подобно солнцу, испускающими лучи свои; слава его пронеслась по всем странам, особенно был он страшен половцам» [111].
По всей видимости, Владимир помимо перечисленных достоинств обладал здравомыслием и политической волей, так как сумел в период своего княжения усмирить кипящий котел, в который стала превращаться к тому времени Русь. Как отмечает Е. Ю. Спицын, ссылаясь на мнение ряда современных историков, «авторитет и влияние Владимира Мономаха во всех русских землях были настолько велики, что можно вполне определенно говорить о ренессансе Древней Руси, которая именно в те годы была сильна как никогда» [112].
Правление Владимира было не очень долгим (1113–1125 годы). В 1125 году Владимир умирает, оставив великокняжеский стол своему старшему сыну Мстиславу. Уже тот факт, что никто не воспротивился нарушению старшинства наследования, допущенному в этом случае, включая законного претендента на великокняжеский стол дядю Мстислава, говорит о многом. Действительно, в «годы своего правления Мстислав Великий жестко охранял целостность Русской земли и пресекал любые попытки сепаратизма» [112]. Но с момента кончины Мстислава в 1132 году начинается очередная княжеская междоусобица и распад государства.
Чтобы читатель мог в полной мере прочувствовать атмосферу большей части XII века на Руси, приводим отрывок из «Курса русской истории» С. Ф. Платонова. Начнем с 1154 года, так как со смерти Мстислава до этого момента события развивались в том же ключе. «В 1154 году Изяслав умер; престарелый Вячеслав вызвал другого своего племянника – Ростислава Смоленского, и киевляне присягнули ему, заключив, однако, договор, что он будет чтить своего дядю Вячеслава, как делал это его покойный брат. После же смерти Вячеслава киевляне приняли Изяслава Давидовича, представителя Святославичей; но тут снова явился Юрий, и престол, в третий раз перейдя к нему, остается за ним до его смерти. В 1157 г. Юрий умирает, и киевляне, не любившие этого князя, хотя он и был Мономахович, снова зовут на киевский стол Изяслава Давидовича. Тогда один из младших Мономаховичей, Мстислав Изяславич Владимиро-Волынский, опасаясь, что киевский стол уйдет из рук Мономаховичей, изгнал Изяслава из Киева и водворил там своего дядю Ростислава, а после смерти его в 1168 году сам занял великокняжеский престол. В то же время претендентом на Киев является сын Юрия – Андрей, которого Мстислав обошел, как раньше отец его Изяслав обошел дядю своего Юрия. Победа в этой борьбе осталась на стороне Андрея; в 1169 г. Киев был взят, а Мстислав удалился в свою Волынскую область. Киев был ограблен и сожжен, а сам победитель не остался в нем и ушел на север» [80].
Таким образом, к середине XII века от величия Древней Руси остались преимущественно воспоминания; да и сама она прекратила существование как единое государство, распавшись на десятки отдельных княжеств. С юга постоянно грозили набегами кочевники, торговые обороты падали, население беднело, князья пребывали в постоянных выяснениях отношений. Народ стал сниматься с мест и мигрировать на северо-восток.
С этого времени начинается новый этап истории Древней Руси. Вслед за населением основные события перемещаются на ее северные территории. С. Ф. Платонов так характеризует этот период: «…усобицы князей, отсутствие внешней безопасности, падение торговли и бегство населения – были главными причинами упадка южнорусской общественной жизни. Появление же татар нанесло ей лишь окончательный удар. После нашествия татар Киев превратился в маленький городок в 200 домов; торговля вовсе заглохла и мало-помалу Киевскую Русь по частям захватили ее враги. А в то же время на окраинах Русской земли зарождалась новая жизнь, возникали новые общественные центры, слагались новые общественные отношения. Возникновение и развитие Суздальской Руси, Новгорода и Галича начинают уже собою иной период русской истории» [80].
Произошло усиление ряда северных княжеств, изменились даже приоритеты самих князей. Как верно подметил Платонов, киевский стол стал им неинтересен. Мы уже видели это на примере Андрея Боголюбского, разорившего Киев в 1169 году. Северные князья активно вмешивались в дела южных княжеств, но свою жизнь с ними связывать не хотели. Простой подсчет показывает, что при начале этногенеза славян в I веке н. э., на XII–XIII века должна прийтись фаза обскурации, и мы видим подтверждения этому не только в бесконечных внутренних конфликтах, но и в признаках отсутствия общей идентичности единого в недавнем прошлом народа.
Несмотря на различия во внутреннем устройстве Северной и Южной Руси, процесс распада продолжился и северных землях. Северную Русь называют удельной. Здесь не было борьбы за великое княжение: каждая княжеская семья владела определенной территорией – уделом. «Но в XII в. начинается разложение родового порядка благодаря младшим городам северной Руси, которые, получая особого князя, более ему подчиняются, чем старые, старшие города, что и позволяет князьям усилить свою власть. Князья, возвышая эти города в ущерб старым, смотрят на них как на собственность, устроенную их личным трудом, и стараются как личное владение передать их в семью, а не в род. Благодаря этому родовое владение падает, родовое старшинство теряет значение, и сила князя зависит не от родового значения, а от материальных средств. Каждый стремится умножить свою силу и средства увеличением своей земли, своего удела. Усобицы идут уже за землю, и князья основывают свои притязания не на чувстве родового старшинства, а на своей фактической силе. Прежде единство земли поддерживалось личностью старшего в роде князя. Теперь единства нет, потому что кровная связь рушилась, а государство еще не создалось»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Термин «этничность» получил широкое распространение во второй половине XX века на Западе. Однако четкой научной дефиниции этого понятия в западной науке нет до сих пор. Существует несколько наиболее характерных подходов западных авторов к употреблению данного термина: этничность как этническая группа, как этническая идентичность, как социальная граница и даже как принадлежность к социальному меньшинству [15].
2
С 1992 года – «Этнологическое обозрение».
3
Понятие комплиментарности у Льва Николаевича связано с комплиментом (формой признания, похвалы), а не с взаимодополняемостью (комплементарностью). «Принцип комплиментарности не относится к числу социальных явлений. Он наблюдается у диких животных, а у домашних известен каждому как в позитивной (привязанность собаки или лошади к хозяину), так и в негативной форме» [26].
4
Подразумевается именно экологическая ниша, т. е. так или иначе связанная с адаптацией к природной среде. Ниша социальная (ростовщичество, например) при этом может быть найдена и даже освоена вполне успешно.
5
Которые были основным предметом интересов Гумилева. В норме хороший специалист должен любить то, чем он профессионально занимается большую часть своей жизни.
6
На самом деле им рассматривались различные предположения, в том числе магнитные аномалии и даже «случайные флуктуации, наличие блуждающего гена, реакция на экзогенный возбудитель. Однако всему перечисленному противоречат факты» [26]. Под фактами подразумеваются время возникновения и особенности расположения на земной поверхности зон, затронутых пассионарными толчками.
7
Заметим, что даже убедительное представление одной из перечисленных сторон как выгодоприобретателя не исключает совпадения: выгодно было европейцам (или ордынцам), но смерть Александра наступила от естественных причин.
8
У «подготовленного» читателя (историка, например) другая проблема – устоявшиеся представления о тех или иных исторических событиях и процессах. Встреча с иной их трактовкой автоматически вызывает протест. Результатом является вступление в дискуссию по частным вопросам и огульное отрицание теории этногенеза в целом.
9
По поводу Карамзина, «певца» династии Романовых, могут возникнуть возражения, но мы не сочли возможным исключить его из общего ряда авторитетов.
10
В главе XXIX «Пассионарность и сфера сознания» работы «Этногенез и биосфера Земли» дана более развернутая классификация.
11
В свою очередь толчком к исследованиям Б. С. Кузина послужили работы А. Г. Гурвича.
12
Такое положение дел характерно для России: «Этносы занимали разные ландшафтные регионы, соответствовавшие их культурно-хозяйственным навыкам, и не мешали, а помогали друг другу. Так, якуты поселились в широкой пойме Лены, а эвенки – в водораздельных массивах тайги. Великороссы селились по долинам рек, оставляя степные просторы казахам и калмыкам, а лесные чащи – угорским народам. Чем сложнее и разветвленнее была такая этническая целостность, тем она была крепче и резистентнее» [26].
13
Например, валлоны и фламандцы в Бельгии, совместное проживание которых Гумилев сравнивает с сосуществованием жильцов в коммунальной квартире.
14
Архетип (от греч. arche – начало и typos – образ) – первоначальный образ, идея. В философии Платона архетипу соответствует эйдос (беспредпосылочное начало). В аналитической психологии К. Г. Юнга это автономные прообразы, существующие в коллективном бессознательном; являются основой инстинктивного приспособления человека к миру и источником общечеловеческой символики.
15
Гумилев полагал, что они могли бы уничтожить все человечество, если бы не пассионарность: созидательная сила пассионарных толчков дает импульс к образованию в зоне контакта этносов и суперэтносов новых этнических систем, а не химер.
16
Краткие характеристики фаз и фазовых переходов представлены в таблице приложения 1.
17
Оставляя никем не учтенное потомство.
18
Никита Хониат (середина XII – начало XIII века) – высокопоставленный чиновник константинопольского двора при Алексее Комнине, византийский писатель. Опираясь на свидетельства очевидцев и собственные наблюдения, в своей работе «История» дал подробное описание истории Византии с 1118 по 1206 годы.
19
Хочется надеяться, что читатель, осознавая различие между «индивидуальностью» и «индивидуализацией», не запутается в приведенном отрывке. Для современного нам мира характерна эта подмена понятий: чем меньше подлинной индивидуальности, тем больше потуг в изыскании мелких, не всегда достойных, особенностей личности и возведение их в ранг уникальности. Далее такая «уникальность» объявляется высшей ценностью, что позволяет требовать различных преимуществ и повышенного к себе внимания окружающих.
20
Опустим некоторые позорные страницы европейской истории в виде повальной демономании и расцвета инквизиции в ХVI—ХVII веках.
21
«Все перечисленные выше „цивилизованные“ империи пали с потрясающей легкостью под ударами малочисленных и „отсталых“ врагов. Для каждого отдельного случая можно подыскать локальные причины, но, очевидно, есть что-то общее, лежащее не на поверхности явления, а в причинной его глубине» [26].
22
Многочисленная группа африканских народностей.
23
Л. Н. Гумилев и Дира, и Аскольда считает русами, тогда как С. Ф. Платонов причисляет их к норманнам.
24
Волжские булгары и дунайские болгары когда-то были одним народом, проживавшим на территории азовско-причерноморского бассейна. В результате наступления на их земли хазар болгары разделились на три группы: первая осталась и была ассимилирована хазарами; вторая поднялась вверх по Волге, где основала новое государство; третья переселилась в восточную Европу и, смешавшись с местными племенами, дала начало Болгарии. Европейских потомков этого народа называют болгарами, а оставшихся на территории современной России – булгарами.
25
Князь-изгой – князь, отец которого сам не успевал вступить в права наследования из-за преждевременной смерти. Изгой выбывал из очереди на великокняжеский стол, так как наследование продолжалось по другой княжеской линии.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

