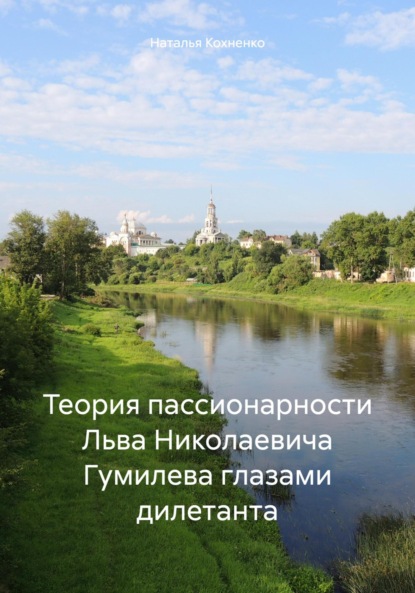
Полная версия:
Теория пассионарности Льва Николаевича Гумилева глазами дилетанта
Большинство критиков категорически возражает против такого подхода, иногда в форме довольно экзотической. Так, Л. С. Клейн противопоставляет взгляду Гумилева свой, «противоположный», который базируется на одной из «весьма разработанных концепций этноса, признаваемых в советской и мировой науке» [42]. Опираясь на эту «наиболее авторитетную» концепцию, он пишет: «…если исходить из принятого подведения под понятие „этноса“ таких общностей, как племя, народность, нация, то какие признаки являются общими для них всех? По каким признакам люди отличают одну нацию или народность от другой? А как когда. То по языку, то по происхождению, то по религии, то по расе, то по обычаям или стереотипам поведения (национальному характеру), то по комбинации нескольких из этих признаков» [42]. То есть у Гумилева признаком этноса является стереотип поведения, а в «наиболее авторитетной» концепции – «как когда». Что называется, почувствуйте разницу.
С некоторых пор выход из столь затруднительного положения, казалось, был найден с помощью нового универсального маркера, которым стало «этническое самосознание». Наиболее разработана эта тема у Ю. В. Бромлея, который во главе группы ученых создал дуалистическую теорию этноса. Судя по всему, на эту теорию и ссылается Л. С. Клейн, так как именно она пользовалась наибольшим признанием среди отечественных специалистов на протяжении длительного времени (начиная с 70-х и вплоть до 90-х годов XX века).
Ее дуализм заключается в разделении понятия «этнос» на узкое (этникос) и широкое (этносоциальный организм, или ЭСО). ЭСО описывает те стороны жизни этноса, которые связаны с его социальным функционированием. Этникос же является его основой. Он сопряжен с социальным организмом и понимается как носитель собственно этнических свойств и характеристик (языка, специфики культуры, этнического самосознания и т. д.).
Основным этнодифференцирующим признаком служит этническое самосознание, которое также делится на два взаимосвязанных уровня (личностный и надличностный). На уровне этнической общности это не что иное, как одна из форм общественного сознания, которая «как функционирующая реальность проявляется лишь, будучи актуализированным мышлением отдельных людей» [11]. Формирование личностного самосознания идет постепенно в ходе социализации и под влиянием сложившихся этнических стереотипов.
Как культура этнической общности не является суммой индивидуальных культур ее членов, так и этническое самосознание не образуется из простого сложения самосознаний индивидов. Индивидуальные особенности культуры и самосознания вариативны и допускают отклонения от общепринятых образцов. Но культура и самосознание этнической общности приоритетны: «сначала формируется содержание общественного сознания, а потом уже и индивидуального» [11].
Остается неясным, откуда берется этническое самосознание «как форма общественного сознания» в период становления нового этноса, когда люди, составляющие этот нарождающийся этнос, еще не только не имели возможности социализироваться соответствующим образом, но и были социализированы как члены других этносов. При этом Бромлей утверждает, что этнические общности «принадлежат к тем совокупностям людей, для которых самосознание выступает непременным компонентом – без самосознания нет этнической общности» [11]. Образуется замкнутый круг: без этнического самосознания нет этноса, а без этноса неоткуда взяться этническому самосознанию.
Проще всего поступили конструктивисты – заменили этническое самосознание понятием этнической идентичности, предполагающим субъективный характер чувства этнической принадлежности. Конечно, как и любая другая, этническая идентичность формируется в процессе социализации, но поскольку жесткой привязки к этносу как объективной реальности нет, то не существует ни преград, ни противоречий. Впрочем, и этноса тоже нет, по крайней мере, с 2004 года, когда наш главный конструктивист В. А. Тишков исполнил «Реквием по этносу» (название его работы).
Гумилев же, с точки зрения Тишкова, «выстроил упрощенную, далекую от действительности схему, игнорировавшую социальные и политические факторы, которые и создают устойчивые общности людей. В его работах мы не найдем ни человека, ни межличностных взаимоотношений, ни индивидуальных стратегий поведения, включая то, что сегодня ученые называют множественной, символической этничностью. Зато в его работах и в работах его последователей мы встречаем только коллективности, которые, по Гумилеву, и определяют характер и поведение человека. Поведение этих коллективностей Гумилев выводил из их культурной спайности и взаимоотношений с местной природной средой. От индивида в этой парадигме ничего не зависело, ибо он являлся рабом своей культуры, к которой он был якобы жестко привязан на протяжении всей своей жизни» [116]. Где-то мы уже все это слышали. Остается только «космополитически воспарить».
Надо сказать, что приведенное выше определение Л. Н. Гумилевым этноса – не единственное. Из имеющихся в его работах определений, освещающих ту или иную сторону этноса и этногенеза, а также пояснений к ним видно, что этнос – продукт биосферы, хотя и облеченный в социальную оболочку, которая является способом адаптации человека к первичной окружающей среде. Люди, невзирая на все технические достижения человечества, продолжают оставаться частью биосферы, входя в различные биоценозы в качестве верхней ступени трофической цепи. Возникновение и развитие этносов подчиняются не столько социальным, сколько естественным законам природы, т. е. социальным, конечно, подчиняются, но в той мере, в которой они природным не противоречат, так как естественные законы первичны. В естественной (природной) сфере находится тот самый «фактор Х», который ответственен за возникновение новых этносов.
Этнос является саморазвивающейся динамической системой, в которой определяющую роль играют внутренние связи, создающие ее структуру. Связи эти носят социальный характер и строятся на почве взаимодействия групп людей в культурной и хозяйственной сферах, но в основе их возникновения и разрушения лежат природные закономерности, без учета которых эти процессы не могут быть до конца поняты и всесторонне объяснены.
Спираль развития человечества в целом обусловлена двумя типами движения: циклическим, состоящим из бесконечной череды этногенезов, и поступательным, под которым мы подразумеваем прогресс. В своей основе этногенез имеет закономерности, присущие любому природному циклу, но каждый новый виток этногенеза происходит на новом уровне прогрессивного развития, вызывая иллюзию поступательности всего процесса. «Между филогенезом и этногенезом есть известная, хотя и не полная аналогия, тогда как прогрессивное социальное развитие подчиняется совсем другим закономерностям, описанным в теории исторического материализма с исчерпывающей полнотой» [26].
Критики пассионарной теории В. А. Шнирельман и С. А. Панарин факт множественности определений этноса, данных Львом Николаевичем, отмечают, говоря, что «определения этноса, густо рассыпанные по основным произведениям Гумилева, вызывают лишь недоумение. И не потому, что иному читателю заключенное в них понимание этноса может показаться небесспорным, а потому, что слишком часто одно из них совершенно не согласуется с другим» [128]. Недоумение читателя, по мнению двух критиков, должно проистекать из несовместимости двух групп определений, в одной из которых утверждается, что этнос – явление природное, а в другой говорится о социальных проявлениях этнического.
«О какой биологии вообще можно говорить, если человек обретает этническое посредством воспитания?» [128] – патетически вопрошают Шнирельман и Панарин. Как будто ребенок, приучаясь посредством воспитания к горшку, одновременно перестает подчиняться законам физиологии, а повзрослев и став доктором или кандидатом каких-нибудь гуманитарных наук, споткнувшись, не падает, а взмывает вверх, презрев закон всемирного тяготения. Приблизительно в таком ключе отвечал Лев Николаевич своим оппонентам и совершенно напрасно тратил время. Совместить биологическое с социальным некоторые ученые-гуманитарии категорически не способны.
«Биологизация» этноса является одним из основных раздражающих критиков факторов в теории Л. Н. Гумилева. Научное обоснование такого неприятия практически отсутствует, если не считать, что «никогда и никто не пытался истолковать в социальном аспекте гравитацию или электропроводимость, эпидемии или половое влечение, смерть или наследственность, ибо это область естествознания» [47]. Кроме того, оно (неприятие) вновь густо замешано на идеологии. Мотив этот часто звучит вполне откровенно: «Вообще гиперболизация в этносах биологического начала за счет социального не столь безобидна, как это может показаться на первый взгляд (особенно в современных условиях, когда важнейшее значение приобретает задача взвешенного подхода и осмотрительности во всем, что затрагивает национальные чувства)» [10]. По стремлению к политкорректности в ущерб здравому смыслу некоторые наши ученые давно могут соперничать и с американцами, и с европейцами.
Но наиболее слабым с точки зрения критиков звеном теории Гумилева является сама пассионарность и гипотеза космической природы пассионарных толчков, что вполне закономерно. Как известно, гипотеза является научным предположением, выдвигаемым для объяснения какого-либо явления. Предположительный характер гипотезы не является основанием для отрицания основанной на ней теории, если гипотеза отвечает целому ряду требований, в частности если она не противоречит существующему научному знанию. Это всем хорошо известно, но поскольку в данном случае гипотеза не только не является доказанным фактом, но и примыкает к области естествознания, еще не вполне изученной, проще всего объявить, что она противоречит современной научной картине мира.
Сложнее подобрать основания для выявления такого противоречия. Поэтому большинство критиков объявляет предположение о космической природе взрыва пассионарности антинаучным по принципу «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Некоторые, пытаясь представить Гумилева «основателем некоего учения, сотканного из противоречий, недоказуемых постулатов и мифологем» [128], откровенно лукавят, утверждая, что Лев Николаевич не потрудился для начала поискать причину этому явлению на Земле[6].
Но это еще полбеды. От Л. С. Клейна, протестующего против предполагаемого Гумилевым внеземного происхождения энергии пассионарного толчка, мы узнаем следующее: «Изменение этносов – не изменение материальных тел, а прежде всего – изменение сознания. Те изменения, которые происходят с материальными объектами при всяких этнических преобразованиях – это сопутствующие процессы. Энергия на них идет не из этнической сферы. Но даже если бы этносы были материальными массивами, их изменения вовсе не обязательно должны требовать какой-то дополнительной энергии извне. Ведь достаточно просто перераспределить наличную энергию, т. е. нужны изменения в сфере руководства процессами, нужны идеи, изменения в мозгу. А на них тратятся микроскопические дозы энергии» [42].
Итак, этносы, состоящие из людей, – не «материальные массивы», для их изменения не нужна энергия, достаточно лишь перераспределить уже имеющуюся, неизвестно откуда взявшуюся, а для этого необходимы всего-то «изменения в мозгу», требующие «микроскопических доз энергии». Действительно, изменение сознания без участия вполне материального мозга невозможно, так как сознание и мышление – это функции его высших отделов. Но специалисты в области работы мозга крайне были бы озадачены откровением относительно «микроскопических доз энергии», так как известно, что именно мозг наиболее энергетически прожорливый орган человеческого организма.
Становится понятно, почему Л. С. Клейн, имеющий столь оригинальный взгляд на соотношение материи и духа, обвиняет Гумилева в вульгарном материализме. Ясности в вопросе происхождения пассионарных толчков после этого у нас, конечно, не прибавилось, но теперь мы точно знаем, что Лев Николаевич и его критики по целому ряду вопросов говорили на разных языках и понять друг друга не имели никакой возможности.
Таким образом, восприятие теории пассионарности в основе своей имеет мировоззренческий характер и определяется взглядами оценивающего «на соотношение природы и общественного человека» [26]. Сам Гумилев выделял три точки зрения, существующие по этому вопросу. Первая относит человека и его деятельность всецело к природным явлениям. Это и есть природный детерминизм. Подлинный природный детерминизм на современном этапе развития науки можно считать большой редкостью.
Вторая признает, что когда-то человек был неотъемлемой частью природы, но на современном этапе жестко разделяет социальное и природное, считая «все феномены, связанные с человечеством, социальными, делая исключение лишь для анатомии и отчасти физиологии» [26].
Третья точка зрения заключается в том, что в «антропогенных процессах различаются проявления общественной и комплекса природных (механическая, физическая, химическая и биологическая) форм движения материи» [26]. Она в современной науке представлена, но не в гуманитарной, как правило, среде. Среди авторитетных представителей естественных наук вопросы к теории Гумилева возникают. Однако она не объявляется на этом основании антинаучной.
В работе «Синергетика и прогнозы будущего» (С. П. Капица, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий) можно встретить такую оценку теории Льва Николаевича: «Эта концепция представляется глубокой и содержательной, однако ее использование в математическом моделировании требует ответа на вопрос, каким образом пассионарность, хотя бы в принципе, может быть измерена. <…> В этой самосогласованной и убедительной концепции, подтвержденной многочисленными историческими изысканиями, наиболее уязвимым моментом, вероятно, является начальная стадия возникновения этноса, так называемый пассионарный толчок. Сам автор концепции связывал его с некими „мутациями“ либо с неизвестными космофизическими факторами. Развитие нелинейной динамики показывает, что можно обойтись без этих не вполне понятных и вызывающих сомнение сущностей. Возможности для этого предоставляет активно развиваемая в последние годы теория самоорганизованной критичности» [39].
Синергетический подход не отделяет этносы от других систем и решает практические вопросы прогнозирования, оставляя за рамками своих интересов фундаментальные вопросы природы этносов. Тем не менее, мы видим, что авторы работы не отвергают принципиальной возможности обсуждения положений теории пассионарности. Вообще, как отмечает Анатолий Иванович Чистобаев, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, труды Льва Николаевича были высоко оценены представителями точных и естественных наук.
Можно привести и примеры отсутствия непреодолимых противоречий между концепцией Гумилева и некоторыми этнологическими теориями, но это обстоятельство обыкновенно категорически отрицается, так как фигура Льва Николаевича стараниями критиков стала токсичной; никто не хочет компрометировать себя подобными параллелями.
Большой редкостью среди этнологов является подход к проблеме, который был продемонстрирован историком и этнологом Сергеем Викторовичем Чешко в статье «Человек и этничность»: «Совсем не обязательно соглашаться с географо-энергетической интерпретацией этноса Гумилевым, с биологизацией этноса Широкогоровым. Однако оба исследователя, как мне кажется, наметили интересный подход к интерпретации той, „заопытной“ области этничности, в которой, наверное, и скрывается ее суть. Если „очистить“ этничность от всех сопутствующих ей переменчивых факторов, внешних атрибутов, ситуативных проявлений, то она обнаружит себя как недетерминированный никакими материальными причинами социальный инстинкт – инстинкт коллективности. Но не какой-то ойкуменической „соборности“, а именно коллективности, т. е. единства двух противоположных начал – группирования и разделения. Человек не может существовать в одиночку, а человечество не может существовать в недифференцированном (несгруппированном) виде» [127].
Здесь можно спорить о «недетерминированности никакими материальными причинами социального инстинкта», так как по Гумилеву он имеет волновую, т. е. материальную природу, но появляется поле для дискуссии. Однако в современном мире глобализации, стремящемся стереть национальные границы, взгляд на этносы как исключительно социальное, т. е. конструируемое (квазиреальное) явление преобладает.
Все вышеперечисленное делает сомнительной аргументацию «антикосмической» критики пассионарных толчков и вообще пассионарности со стороны оппонентов Л. Н. Гумилева. На критике пассионарности как заимствования из пресловутой теории «героев и толпы» Николая Константиновича Михайловского мы подробно останавливаться не будем, так как в ней (критике) нет ничего кроме искажения смысла текстов Гумилева и традиционного возмущения по поводу превозношения «героев» и умаления обычных людей, представителей «толпы».
Скажем только, что и Михайловский не имел в виду того, что ему вменяется. Он четко определял, что «герой» – «не первый любовник романа и не человек, совершающий великий подвиг. Наш герой может, пожалуй, быть и тем и другим, но не в этом заключается та его черта, которой мы теперь интересуемся. Наш герой просто первый „ломает лед“, как говорят французы, делает тот решительный шаг, которого трепетно ждет толпа, чтобы со стремительной силой броситься в ту или другую сторону. И не сам по себе для нас герой важен, а лишь ради вызываемого им массового движения. Сам по себе он может быть, как уже сказано, и полоумным, и негодяем, и глупцом, нимало не интересным» [73].
Иногда в работах Льва Николаевича встречаются то ли фактические ошибки, то ли недоразумения. И. Ю. Смирнов указывает на то, что среди причин, «породивших в научных кругах недоверчивое и скептическое отношение к теории этногенеза, нельзя не указать содержащиеся в трудах этнолога очевидные фактические ошибки» [104]. Иван Юрьевич даже приводит небольшой список ошибок, которые в «досадном количестве» встречаются в «Этногенезе и биосфере Земли». В этом перечне фигурируют то «невероятные „угро-самоеды“ (с. 194), то не менее фантастический „протомалайский этнос Юе“ (с. 169). Автор смешивает батат с картофелем и заставляет полинезийцев плавать на бальсовых плотах (с. 297)» [104].
Кажется сомнительным, что географ Гумилев путал батат с картофелем, а комментарии И. Ю. Смирнова, разъясняющие разницу между угорской и самодийской («самоедской») языковыми группами или просвещающие относительно этнонима Юе, наводят на мысль, что Лев Николаевич вполне мог разбираться в этих вопросах, но и на них иметь свой оригинальный взгляд. Не факт, что этот взгляд был верным. Поэтому можно считать это фактическими ошибками или предъявлять претензии в связи с отсутствием каких-либо пояснений на этот счет, но сложно не согласиться с Иваном Юрьевичем Смирновым в том, что «мелочные придирки из-за ошибок по частным вопросам» [104] будут несправедливыми.
В защиту этой позиции Смирнов даже проводит параллель с Кантом: «Иммануил Кант в своих лекциях по географии в Кенигсбергском университете сообщал студентам, что бывают хвостатые люди, а живут они в степях вблизи Оренбурга. <…> Однако стоит ли принимать в расчет подобные заблуждения при общей оценке великого немецкого философа? Очевидно, это было бы несправедливо. <…> Так что следует ценить те оригинальные идеи, которые выдвигал Лев Николаевич, и не придавать первостепенного внимания его ошибкам» [104].
Взвешенно следует подходить и к интерпретации тех или иных исторических фактов и событий. Их оценка – практически всегда вопрос крайне субъективный. В связи с этим надо сказать несколько слов об исторических фактах, их трактовке и непоколебимой вере в летописные источники.
Когда Л. Н. Гумилева обвиняют в жонглировании фактами и их вольной интерпретации, следует понимать, что подобные претензии можно предъявить практически любому историку, так как в значительной степени история и есть интерпретация, то есть объяснение, истолкование того, что нам неизвестно доподлинно. А часто и «известное» есть не что иное, как более ранняя трактовка. «Вольность» же доказуема только тогда, когда имеют место нарушение логики и противоречие фактам – фактам, а не их интерпретации, даже авторитетной.
Простой пример. Известно, что Александр Невский умер в ноябре 1263 года в Городце, возвращаясь из Орды. Существует несколько версий относительно причин его смерти. Доминирующей является версия естественных причин. Но есть и сторонники версии отравления князя в Орде. Большинство из них полагает, что отравители – ордынцы, а Л. Н. Гумилев – что если кто и отравил, так это европейцы, которых в Орде тоже было много.
Так вот, смерть Александра Невского – это исторический факт. Обстоятельства ее (время, место и т. п.) – тоже, если они подтверждаются разными независимыми источниками. Причины смерти – интерпретация, непосредственно зависящая от взгляда интерпретатора на взаимоотношения между Русью, Ордой и Европой, то есть от решения вопроса «кому выгодно?»[7]. При этом, как правило, сторонники одного взгляда объявляют свою трактовку убедительной версией, а соображения оппонента – домыслами.
Еще больше осложняется попытка найти истину, когда более или менее нормальная дискуссия подменяется противостоянием «общепринятой точки зрения» и «фантазиями» неких маргиналов. В этом случае вес каких-либо доказательств совершенно обесценивается, а определяющим победителя фактором становится информационный ресурс и авторитет (иногда реальный, нередко сомнительный) в научных кругах. Столкновения Гумилева и его оппонентов по поводу конкретных исторических событий чаще всего носят именно такой характер, что, конечно, не делает Льва Николаевича правым автоматически, но должно приниматься во внимание.
Теперь о летописях. Мы часто забываем, что летописец – всего лишь человек, который может ошибаться, «врать как очевидец» и даже быть ангажированным кем-то. Это относится к «летописцам» всех времен и народов, независимо от их орудия труда (перо, пишущая машинка или ПК). Как писал Д. С. Лихачев, «источники могут тенденциозно искажать факты, следуя каким-то своим концепциям и раскрывая свои идеи. Поэтому задача историка не сводится к выбору источника своего повествования, а она заключена в открытии истины, сознательно спрятанной автором-современником» [61].
Однако нельзя сказать, что критики Гумилева отрицают значение этого фактора. И в этом смысле их методологические претензии к историческим трактовкам Льва Николаевича до известной степени оправданны. Гумилева часто упрекают в пренебрежении к источниковедению вообще и методу научной критики исторических источников в частности.
Так, Яков Соломонович Лурье в статье «К истории одной дискуссии» отмечает принципиальное различие между догадками, «простыми предположениями о возможности того или иного» и гипотезами, вытекающими в работе историка из анализа источников: «Науки о прошлом отличаются от иных эмпирических наук недоступностью „непосредственного наблюдения“. Тем более недопустимым представляется введение в эти науки построений, не вытекающих с необходимостью из материала источников» [65]. Гумилев же «начисто отвергает всякое источниковедение, объявляя его „мелочеведением“, при котором „теряется сам предмет исследования“» [65].
«Мелочеведение» – термин Гумилева (на наш субъективный взгляд, очень удачный), но вряд ли справедливо обвинение, что Лев Николаевич вообще отвергал какое-либо значение исторических источников. Однако вопрос «откуда взял Гумилев известия о…?» вполне обоснован. В данном случае недоумение Я. С. Лурье касается хана Мамая и его договоренностей с генуэзцами, но список этот можно долго продолжать, так как Лев Николаевич, делясь с читателями своими выводами, далеко не всегда давал себе труд объяснить, откуда они взялись.
Сложнее согласиться со следующей мыслью Я. С. Лурье: «Летописцы могли быть и часто действительно были тенденциозны, но эта тенденция отражалась в первую очередь на описании событий близкого им времени. В изложении событий далекой древности она выражалась лишь в отстаивании исконных династических прав Рюриковичей. Главное, к чему стремились составители ПВЛ и Начального свода, – разобраться в противоречивых и часто легендарных сказаниях о событиях IX–X вв. и, по возможности, датировать их. Подозревать Нестора и его предшественника конца XI в. (которого уж никак нельзя обвинить в „западничестве“) в коварных умыслах при изложении событий давно минувших лет нет оснований» [64]. Перед нами чистой воды интерпретация, субъективный взгляд самого Лурье, так как его убеждение в отсутствии «коварного умысла» предшественника Нестора и объяснение якобы истинных мотивов последнего не менее бездоказательны, чем противоположное мнение Гумилева.

