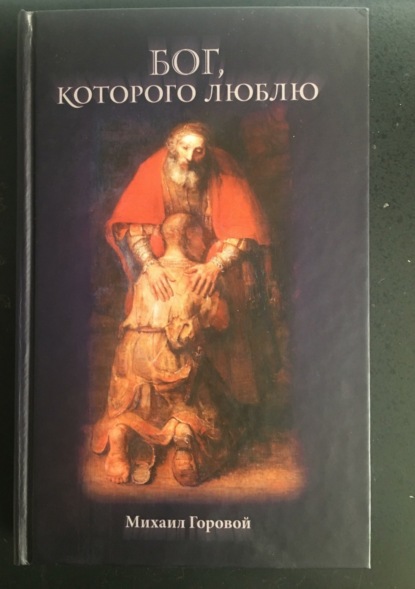 Полная версия
Полная версияБог, которого люблю
– Ты его загипнотизировал, – мрачно сказал Володя.
Накануне отъезда у него было прекрасное настроение. В тот год всего трем тысячам семей разрешили выехать из Союза, его семья попала в это число.
Проводы устроил в квартире тещи на Преображенке. Когда настал момент прощаться, мы вышли на лестничную площадку, обнялись.
– Вот увидишь, – сказал он, – в первый же год заработаю миллион, а как вершину всей жизни – миллиард.
Я догадывался, каким образом он собирался так сказочно разбогатеть. Незадолго перед проводами Володя познакомил меня с Толей, кандидатом наук, с которым работал в одной лаборатории. «Светлейшая голова», – отрекомендовал он мне его. Они отошли немного в сторону поговорить.
– Безграничное применение… В сельском хозяйстве, в военной промышленности. Вот только как завести это дело… – краем уха услышал я.
Из дальнейшего разговора понял, что Володя намеривается запатентовать в Америке Толину идею антикоррозийного покрытия металлов.
Мои юношеские впечатления о Володе оказались правильными: вся его деятельность была подчинена одной цели – стать богатым. Чтобы скопить деньги, он делал неимоверное количество движений: перепродавал золото, мебель, бриллианты. Когда у тех, кто продавал ему и покупал у него бриллианты «рабочий день» заканчивался, и они ложились спать, Володя говорил, что обязательно еще должен заработать на бензин и ехал куда-то в Сокольники. Там, у знакомой женщины на заправке, он очень выгодно менял колбасу на бензин. Затем ехал в Медведково, оставлял канистры на балконе у родителей (они жили на первом этаже) и только потом, уже заполночь, возвращался домой на Щербаковку.
Наша формула – «Вдвоем в четыре раза легче» – сработала еще один раз. Я поддерживал отношения с его оставшимися родственниками, и как-то они сказали, что люди, которые взяли Володины рубли и обещали через своих друзей отдать ему доллары в Америке, до сих пор морочат голову и денег не передают.
Они дали мне адрес этих людей и попросили поговорить с ними. Так получилось, что смог прийти к ним лишь после одиннадцати часов вечера. Поднялся на десятый этаж, позвонил в дверь. Женский голос спросил: «Кто там?» Я ответил, что от Володи, который уехал в Америку, насчет денег. Дверь не окрыли, и тогда я довольно громко, чтоб слышали все соседи, изложил суть дела, несколько раз повторив слова – Америка, доллары, Израиль, приду еще раз.
Через неделю они вернули несколько тысяч долларов.
Володю вспоминал часто. Поневоле задумывался, как встреча с одним человеком повлияла на мою жизнь. Его друзья стали моими друзьями – Юра, Марик, Лева, который когда-то учился с ним в одном классе. Он устроил меня в фотоцех, где я числился два года…
Так сложилось, что меня окружали евреи. Даже Юрий Вадимович, профессор, который так помог мне, тоже оказался евреем.
С Дмитричем мы встречались всё реже и реже. Иногда он звонил и мягко упрекал: «Ну, куда ты пропал? Хоть бы позвонил, сказал, что жив и здоров. Мне же от тебя ничего не надо».
Всякий раз, когда вспоминал его, перед глазами возникала фотография, которую он показал мне еще в лагере. Он с женой и двумя сыновьями в звездный час семейной жизни. Молодые, красивые, счастливые. Но как же жестоко распорядилась судьба с этой семьей!
До мелочей помню тот вечер, когда я получил письмо от сестры. Кругом лежал полурастаявший грязный снег, тускло мерцали лагерные фонари.
«Как-то скажи Дмитричу, – писала сестра, – что его сын Игорь попал под машину. Скажи, что он в больнице, в тяжелом состоянии. Подготовь его, не говори сразу, что Игорька больше нет».
Подготовить не получилось. Едва я начал говорить, Дмитрич сразу же посмотрел мне в глаза, – так только он смотрел, – и я уже ни за что на свете не смог ему солгать.
– Ну, мне-то скажи правду, не темни, – попросил он.
И мне пришлось сообщить отцу о смерти сына.
Дмитрич сел за наш обеденный стол, закрыл глаза руками и несколько раз почти шепотом повторил: «Игорек, родной, как же ты не уберег себя? Ну, как же ты так?..»
Игорьку исполнилось семнадцать лет, он был любимым сыном Дмитрича. Именно с ним он связывал все свои надежды. Старшему сыну было двадцать четыре года, и он сильно пил.
Я сел на корточки рядом с Дмитричем и тоже закрыл глаза. Через мгновение почувствовал его руку на плече. А через месяц у него случился инфаркт…
Конечно, я понимал, что бесконечно обязан этому человеку. Он делился со мной всем, что имел, всегда защищал. Мне ни разу в голову не пришло заподозрить его в какой-то корысти.
Прошло уже около пяти лет как мы оба были на свободе. За все это время мы виделись раз десять, не больше. Жил он далеко, сильно болел, икрой и серебром не торговал. Ехать к нему? Для чего? Чтобы лишний раз вспоминать то, что уже вспоминали много-много раз? Получилось так, что и он оказался мне не нужен. Выходит, я предал его, и ничего с этим уже не поделаешь.
Моя племянница Наташа и Олежка родились почти в один день и, благодаря цепи случайностей, познакомились в этом огромном городе. Они не должны были родиться. Моей сестре врачи категорически заявили, что ребенка у нее быть не может. Ольга же, когда забеременела, выдержала нападки всех своих родных, которые слышать не хотели ни о каком ребенке без мужа, отвергла советы врачей, имевших основания опасаться за ее жизнь, и родила. К тому же была без работы, без квартиры и без денег.
Совершенно по-разному началась жизнь этих двух малышей! Наташеньку в моей семье все ждали, и первые годы моя мать буквально не отходила от нее. С четырех или пяти лет ее учили рисованию, фигурному катанию, танцам, а чуть позже – английскому языку. В любые праздники и застолья она всегда была в центре внимания.
Когда же родился Олежка, то к Ольге в роддом несколько раз приходила женщина и предлагала за него крупную сумму денег. И все родные говорили: «Отдай, ты же все равно не сможешь поднять его и рано или поздно сдашь в детский дом. На нас не рассчитывай».
Но Ольга выстояла.
В загородном детском саду, где воспитывался Олежка, его напугала собака, и долгое время он почти ничего не говорил. Как остро я сейчас чувствую его недоумение, когда дома он видел меня раз в две недели или в месяц, и ему почему-то не разрешали произнести одно из немногих слов, которое он знал и так хотел сказать: «папа». Мы часто видели синяки на его теле, и Олег всегда твердил, что упал, ударился.
Лишь спустя два года после того, как Ольга забрала его из загородного детского сада, он сказал, что там его били воспитатели. Как же крепко его научили, молчать и не жаловаться родителям! Только через два года, поняв своим детским умом, что Ольга больше не отдаст его туда, он рассказал обо всем.
Каким окаменелым было мое сердце! Ведь мне даже в голову не приходило задуматься над тем, что творится в душе этого ребенка.
Когда Наташа и Олег пошли в школу они оказались, как в разных мирах. Наталью сестра возила в престижную спецшколу на машине, и каждая полученная ею отметка обсуждалась на семейном совете. Олег же ходил в школу, которая была поближе к дому. Когда учился в первом классе, он как-то раз пришел после занятий со значком Ленина на груди.
– Ленин, – сказал он многозначительно и гордо.
– А что Ленин? – спросил я. – Где он?
– В мавзолее, – как на уроке торжественно ответил Олег.
– Олежка, да там и Ленина никакого нет, одна бутафория, – начал было я.
– Сам ты бутафория, – зло сказал он, и первый раз в жизни посмотрел на меня волчонком.
– Ну вот пусть тебя Ленин твой и кормит, – вмешалась в разговор Ольга. – А сегодня ни обедать, ни ужинать не будешь и спать голодным пойдешь.
На следующее утро Олежка подошел ко мне и первым делом спросил:
– Папуля, а что такое бутафория? Это когда есть нечего?
С этого дня я решил: надо сделать так, чтобы Олег не ходил в школу. Надо найти ему частных учителей по математике и английскому. И этого будет достаточно.
У меня самого был диплом преподавателя немецкого языка средней школы. И я вдруг отчетливо вспомнил, как нас учили преподавать: урок имеет воспитательную и познавательную цель. Воспитательная цель главная, поэтому слова и фразы, которые заучивают дети, должны быть примерно такими: «Ленин вождь трудового народа» или «Наша родина самая лучшая в мире». И совершенно неважно, что сам учитель не может говорить по-английски или по-немецки. Важно сотни раз повторять эти фразы.
Итак, мы решили потихоньку свернуть занятия в школе. Но стоило Олегу пропустить два-три дня, как моментально начали названивать учителя. Ольга вела с ними переговоры, и ей приходилось выдумывать, что Олег заболел. Нельзя же было просто сказать, что не хотим мы учиться в вашей школе.
Когда мы начали узнавать, как нам отделаться от школы, выяснилось, что это невозможно. По закону он обязан учиться, и если родители препятствуют этому, то их могут лишить родительских прав.
Я поделился своими мыслями насчет школы с сестрой, она сказала, что я сумасшедший.
С самого раннего детства мы с Ольгой ничего не скрывали от Олежки, и слова «купил», «продал», «спрятал» он услышал гораздо раньше других слов. Он верил всему, что я ни говорил, заворожено смотрел снизу-вверх, и, если я предлагал что-то сделать, мгновенно отвечал: «давай».
Поскольку после окончания института учителем я не работал, то полученные знания по воспитанию и обучению мог применять на практике только к Олежке.
«Давай», – сразу же согласился он, когда я предложил «поиграть в тюрьму» после того, как он сделал что-то нехорошее.
– Вот и начнем со следующего раза, – стал я объяснять условия игры. – Если ты вместо семи часов вечера, как просит мама, придешь домой опять в девять, то это будет называться нарушением режима, за что полагается штрафной изолятор, то есть сутки пробудешь в чуланчике. Питание тоже будет соответственное – по пониженной норме: кипяченая вода и черный хлеб. Все как настоящее.
Ждать следующего раза долго не пришлось, и Олежка смиренно приготовился выполнить условия игры, только спросил:
– А в школу мне завтра идти?
– Это и есть твоя школа, – ответил я, закрывая чуланчик.
Не знаю, как он спал в ту ночь, но мы с Ольгой почти не спали. В полудреме я ощущал, как сомнения подкатывают внутри: «Ведь ему там и прилечь толком негде». Каждый шорох из коридора выводил из дремоты. «Весь этот мир держится на страхе, – убеждал я себя, ворочаясь с боку на бок. – Ведь каких дел я натворил бы, если бы не боялся тюрьмы». Цель этой игры заключалась в том, чтобы он хоть на короткое время ощутил, что такое лишение свободы, задался вопросом: а как же это можно выдержать год или два?
Когда сестра спрашивала меня: ну как там твой сынишка, я рассказывал о своих методах воспитания, и она только разводила руками: «Ты воспитываешь из него бандита».
Ему не было еще восьми лет, когда мы с Ольгой единодушно решили, что самая лучшая учеба – в бою, и пора ему окунуться в реальную жизнь. Мы стали давать ему сто рублей и иногда вместо школы посылать в тот район, где он все знал. Задание было простым: найти большую очередь, выстоять ее и купить, например, детские шубки. Когда же продавалось что-то особенно хорошее, в его задачу входило занять очередь и для мамы, потом позвонить ей, чтоб приезжала.
Однажды очередь была особенно большой. Олежке пришлось отстоять две ночи. Так вот, ночью к нему подошел милиционер и спросил:
– Мальчик, а что ты тут делаешь?
– А вам кроссовки нужны? – вопросом на вопрос ответил Олежка.
– Хм, нужны. – согласился милиционер и отошел в сторону.
– Деньги, которые мы тебе даем за работу, ты не трать, – учил я Олежку тому, чего сам никогда не мог сделать, – а постарайся скопить их. Тогда ты сможешь пустить их в оборот и уже заработать гораздо больше.
Через некоторое время он, последовав моему совету, скопил какую-то сумму и на все деньги купил детские пижамы. Конечно, продать их он никому не мог, и каждый раз, когда я уходил из дома, он просил меня:
– Ты там спроси, мои пижамки никому не нужны?
Еще до окончания института я решил, что работать учителем в школе не буду, и учился только потому, чтобы довести до конца начатое в юности, и еще, наверное, потому, что это было гимнастикой для мозгов. Сверхзадача состояла в том, чтобы сдавать экзамены, не посещая лекций (кроме как по немецкому языку) и не готовясь к экзаменам.
Сдавая десятки экзаменов и зачетов, я пользовался несколькими приемами, которые работали безотказно.
Чаще всего я входил в аудиторию одним из первых, тут же начинал задавать преподавателю разные вопросы и незаметно брал со стола билет. Затем выходил в коридор, брал у какого-нибудь сокурсника соответствующие конспекты лекций и готовился к ответу.
Когда возвращался в аудиторию, то извлечь билет, лежащий в зачетке или чистой тетради, подложить его к остальным билетам, чтобы потом открыто вытянуть, – было уже делом техники.
Преподаватели, как правило, не обращали внимания на мои движения вокруг экзаменационного стола. Они, наверное, думали: «Интересно, как он будет списывать, ведь он ничего не знает и не скрывает этого?»
Когда же экзаменационный билет не удавалось заполучить заранее, я подходил к преподавателю и говорил: «Мне надо срочно позвонить моему начальству, через три минуты вернусь». И не дожидаясь разрешения, шел “звонить”. Конечно, возвращался я не через три минуты, а через десять. За это время лихорадочно укладывал в голову ответ, перелистывая конспекты и учебники.
Государственный экзамен по истории КПСС сдал по формуле: кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая. После того, как были прочитаны все лекции – а ни на одной из них я не был – подошел на улице к преподавателю, назвал свою фамилию и стал перечислять все, что смогу для него достать.
– Мне нужен трехстворчатый шкаф, – перебил он меня. – Заплачу за него по государственной цене, и оплачу доставку. Привези его ко мне домой.
На госэкзамене все было как положено: красная скатерть, вазы с цветами, между вазами – экзаменационные билеты. 14, 15 и 16, на которые я знал ответы, были положены слева.
Марик с Володей всегда убеждали: «Брось всё, учи английский. Если попадёшь в Америку, это и будет твоё богатство».
Ещё не окончив институт, я взял частного преподавателя и занимался с ним каждый день. Целью стало – за полгода достичь уровня, который позволил бы войти в разговорную группу, куда попадали наиболее способные ребята после двух-трёх лет занятий языком.
Я считал, что мне повезло с преподавателем, которого нашёл. Были мы почти одного возраста, да и жили друг от друга недалеко. А самое главное – чувствовал в нём искреннее желание научить меня, видел, что ему со мной не скучно, нас как бы объединяло общее дело.
Начали мы с нуля, и уже месяца через два он предложил мне заниматься по учебнику, который кто-то привёз ему из Англии. Учебник состоял из двух частей – вводного курса и продвинутого. В нём были короткие тексты на одну-две страницы в основном зарисовки современной английской жизни.
Давным-давно что-либо из прочитанного не производило на меня такого сильного впечатления как один из текстов.
Речь шла о человеке с безупречной репутацией, которому жители города доверили на сохранение важные документы и большую сумму денег. Этот человек принял все возможные меры предосторожности, чтобы ценности не попали в чужие руки. И всё же случилось так, что их похитили.
По-английски последняя фраза текста звучала так: «Only Lord can keep the city» – «Только Господь мог спасти этот город». Это значит, не во власти человека своими силами оградить себя от напасти. Лишь Господь в силах это сделать.
В последующие дни, оставаясь один, повторял эти слова вслух, и именно по-английски. Впервые в жизни просто слова коснулись меня духом какой-то неопровержимой силы и истины.
Однако почему-то не попытался вникнуть в смысл всего текста, приложить его к своей жизни, поставить себя на место человека, у которого похитили документы.
Только много лет спустя осознал: а ведь тогда я услышал первую в моей жизни проповедью. Но суть её не проникла в меня, наверное, потому, что подобных напастей в тот период жизни у меня не было.
Прийти к решению заниматься только языком и оставить сомнительные, рискованные дела, подтолкнула ещё и одна странная история.
Однажды утром, когда я был у матери, зазвонил телефон. Вежливый мужской голос назвал мою фамилию, имя и отчество.
– Вас беспокоит подполковник Управления внутренних дел Мосгорисполкома… – продолжал тот же голос. – Не могли бы мы побеседовать с вами? Скажем, в среду на следующей неделе в Управлении.
Вежливость, лукавый дух, уже подзабытый мною и ощущение подвоха – сразу погрузили меня в состояние тоски и уныния, будто услышал в телефонной трубке вступительные аккорды похоронного марша.
– Ну, вот и хорошо, – услышав моё. – «Угу, приеду» – на той же вежливой ноте закончил подполковник.
Сразу же вспомнил о Зетцере. Неужели он что-то рассказал обо мне? Но что? Разве о том, что платил ему деньги, когда он стоял в очереди?
Предстоящая встреча с подполковником не давала мне покоя, всё время задавал себе вопрос: «Что, если у них есть какой-то компромат, и они попытаются сделать из меня осведомителя?»
В назначенный день явился на Петровку. Произошло то, чего совершенно не ожидал. Сказав, что ознакомился с моим делом, подполковник предложил работать на органы, пообещал даже платить. Для меня было готово и конкретное задание.
– У нас есть информация, – начал излагать свой план хозяин кабинета, – что один человек с ювелирной фабрики крадёт необработанные камни, но не знает, кому их продать. Ты придёшь к нему как бы от его друга, который отбывает наказание в лагере. Мы научим тебя, что сказать, он поверит тебе. Я уверен, что с этим проблем не будет. А дальше – он сам предложит тебе алмазы, и ты станешь покупать их у него. Деньги тебе мы выдадим.
В тот день я не сказал: «Нет», сказал, что мне надо подумать. Мы договорились, что он позвонит мне через неделю, встретимся с ним у памятника Пушкину, и я дам ему ответ.
Когда я уже выходил из кабинета. Он спросил:
– Неужели ты не хочешь помочь республике? Ведь этот человек обворовывает государство, жирует на эти деньги.
По дороге домой размышлял: «Как бы было хорошо самому выйти на такого человека, который не знает, кому продавать алмазы?»
Вспоминая слова начальника о помощи республике, изумлялся. Почему он пришёл к выводу, что вот просто так, без всякого нажима соглашусь помогать им? Ведь начни я эту игру, сделай только шаг – и уже не принадлежу сам себе.
Я решил тут же положить мать на месяц в больницу. У неё опять очень болели руки. Таким образом, если он даже пошлёт кого-нибудь к нам домой, разговаривать будет не с кем. Искать же меня, прикладывать усилия для этого, он не будет. Наверняка, подыскивая себе человека, он беседует не только со мной. Что ж, пусть работает с теми, до кого легче дозвониться.
В тот же день и дал себе задание быть предельно осторожным хотя бы год-полтора. Вдруг всё-таки вычислят, что живу у Ольги, и постараются поймать меня на чём-нибудь.
Следующие три года жизни прошли однообразно. После десяти утра я тратил несколько часов на то, чтобы скупить всякий дефицитный товар и привезти его домой и к Ольге. Вечером ехал на курсы. Раз в неделю приезжал Юра и все оптом забирал.
Теперь он занимался только коммерцией. Он покупал решительно всё – конфеты, серебро, детскую одежду, книги, иконы – всё, что могло представлять тогда хоть какую-то ценность.
Несколько лет назад, ещё при Брежневе, он решил, что в партийной деятельности толку мало, и просто сдал партбилет. Мотивировал тем, что собирается уезжать в Израиль, а там членам партии во въезде отказывают.
– Ты должен уметь поставить себя с людьми так, чтобы они были от тебя зависимы, – однажды, находясь в хорошем настроении, высказал Юра своё жизненное кредо.
По крайней мере, в отношении меня это действовало. Не забери он у меня вовремя товар, не заплати за него деньги, я буду вынужден приостановить все свои операции, а это – потери.
То ли оттого, что когда-то он проводил партийные собрания, то ли потому, что долгие года проработал начальником, говорил он со всеми, как с подчинёнными. Мы с Ольгой за глаза прозвали его «горлопаном».
Один раз, как обычно, он должен был приехать ко мне и забрать всё, что для него приготовил. Мы прождали его несколько часов. Когда раздался звонок, Ольга сказала Олежке:
– Иди, открой дверь. Наверное, это горлопан.
Через несколько мгновений услышали из коридора радостный голос Олега, он бежал от входной двери в комнату и кричал:
– Горлопан приехал! Горлопан приехал!
Юра вошёл в комнату, снял ондатровую шапку, сел на стул, и как всегда медленно пригладил несколько остававшихся на голове волосков.
– Гм, теперь я знаю, как вы меня называете, – беззлобно сказал он.
После отъезда Володи, я сблизился с Мариком. Ещё в 1971 году он подал документы на выезд в Израиль, получил отказ и автоматически потерял работу. Подававший надежды инженер-химик, сменил одиннадцать мест работы за эти тринадцать лет – был и обойщиком дверей, и плотником в театральном училище, и даже несколько месяцев проработал на кладбище. Правда, там ему долго удержаться не удалось. «Коллегам», которые вместе с ним сколачивали гробы, постоянно трезвый еврей пришёлся не ко двору.
За это время у него родились две дочки. Если сложить вместе все годы, которые его мать, жена, дети, родственники в Израиле провели в ожидании друг друга, получилась бы ни одна сотня лет.
– Чтобы они сгорели! – всякий раз, вспоминая власти, проклинал их Марик.
– Маркушка трусоват, – говорил про него Володя. Да Марик и сам как-то признался мне:
«В сравнении с Володькой я просто трус. Ты не представляешь, что он вытворял, когда мы ещё в молодые годы поехали на пароходе играть в карты. Один раз нас поймали, пришлось даже подраться, нам здорово досталось, но как он держался! А у меня так поджилки тряслись».
И вот «трус» Марик оказался не просто отказником, активистом. Таких, как он, было всего лишь человек сто. Они устраивали демонстрации протеста, встречались с американскими журналистами и конгрессменами, ездили к тем, кто оказывался в лагерях и ссылках. Три раза, ещё в брежневское время, он отсидел по тринадцать суток за участие в демонстрациях.
– А тебе не страшно? – спросил его однажды, зная, что сам бы я никогда на такое не решился.
– Ты знаешь, один бы я не пошёл, – признался Марик, – а так – все идут, и я иду. Со всеми не страшно.
Часто по вечерам, после того, как его жена Ада укладывала дочек спать, я приходил к нему, и мы втроем, сидя на его крошечной кухне, могли часами разговаривать.
Вспоминали Петю, который уже давным-давно жил в далекой Австралии и писал оттуда невеселые философские письма о смысле жизни, говорили о том, как повезло Володе.
В моей суетной жизни не находилось времени для того, чтобы слушать «Голос Америки», зато приходя к Марику, узнавал все последние новости. Он постоянно слушал «вражьи голоса», тем более что они иногда упоминали и его имя.
Как он сам признавал, «отказ» ввёл его в совершенно иной круг людей. Среди них были учёные, артисты, писатели, художники.
Такого антисоветчика, надо было поискать. Ну что мог сказать простой обыватель, даже если власти здорово насолили ему, – только пару крепких слов. По стандартам среднего обывателя, Марик водку почти не пил, но зато со школьных лет писал стихи. Для него было достаточно десяти-пятнадцати минут, чтобы, уединившись прямо посреди вечеринки, сочинить небольшое стихотворение. Он написал «Отказную поэму» на пятидесяти страницах. В ней, без всяких недомолвок, сжигая мосты, изложил все, что думал о советской действительности. Рассказал и о том, как участвовал в сидячей демонстрации на Центральном телеграфе.
Улица Горького. Семь тридцать.
Три конституции разом поправ,
Мимо рабоче-крестьянской милиции
Тридцать евреев вошли в телеграф.
Сели за столики. Сели упрямо
Тридцать синхронно стучащих сердец.
Товарищу Брежневу шлём телеграмму:
«Будем, не емши, до визы сидеть!»
Всё-таки страшно. Как будто покинуты.
Будто лишились привычных опор.
Кружатся, кружатся дяди какие-то
Наглые. С выправкой, как на подбор…
Вот и трудящимся стали помехою:
Заняли столики для телеграмм.
– Граждане! Мы ведь давно бы уехали,
Да не дают разрешения нам.
Вы понимаете, граждане, гости мы,
Что засиделись. Пора нам, пора.
О, вразуми их, пожалуйста, Господи!
И унеси нас с чужого двора…
С Женькой-художником встретился лишь однажды, случайно, в троллейбусе. Не сразу узнал его: одет был уж очень просто, даже бедновато. Женька так не одевался…
Он сам обратился ко мне:
– Вот ты какой стал… Что тут делаешь?



