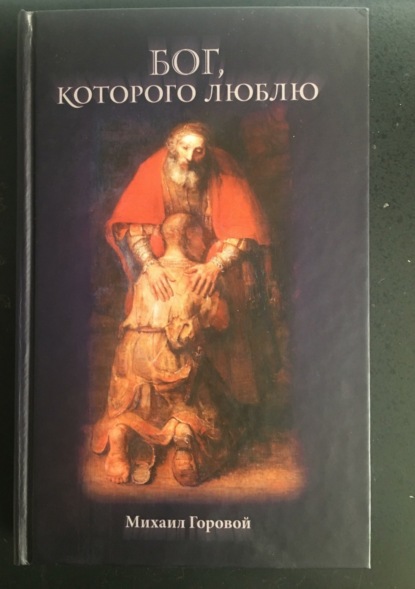
Полная версия:
Бог, которого люблю
– Читать их никому не давай, – предупредил замполит, – поставь на них штамп и держи где-нибудь в сторонке. По распоряжению из управления юридическая литература всегда должна быть в наличии, – добавил он. Но именно эти книги я стал читать.
Не прошло и двух дней, как я пришел к выводу, что ничего интереснее в своей жизни не читал. По этой книге выходило, что не только я и все сидящие в лагерях, но и вообще все люди – преступники. Просто не подошло время их арестовать.
В течение года я ежедневно, по несколько часов, изучал «Комментарии» и перечитывал юридические журналы, имевшиеся в библиотеке.
Моя старшая сестра (ей в то время было 36 лет) не пропустила ни одного положенного мне свидания. Три раза в год она приезжала за две тысячи километров, привозя неподъемные сумки и чемоданы. Ни от нее, ни от родителей ни разу не слышал упреков. Лишь однажды на свидании она вспомнила, как ещё до моего ареста они с матерью сошлись во мнении: «Лучше бы он умер или погиб. Месяц-другой поплакали бы и успокоились».
Кроме продуктов, сестра привозила все, что я просил для клуба и библиотеки – ноты, гитарные струны, микрофоны, фломастеры, даже портреты членов Политбюро. После проверок из управления, замполит не скрывал своего удовлетворения: наглядная агитация была на высоте.
Особенно доверительные отношения возникли у меня с замполитом совершенно неожиданно, после бессонной ночи, которую довелось провести. А дело было так…
В лагере отбывал наказание один узбек. Все считали его очень богатым, потому что он сидел за крупное хищение. Однажды у него было свидание, и он попросил контролера Васю вынести ночью из комнаты свиданий несколько сумок с продуктами, которые ему привезли. Положить их было некуда, поэтому решили временно спрятать в библиотеке.
Каким-то образом это стало известно заместителю начальника по оперативной работе. Утром в библиотеке сделали обыск. Мне крупно повезло: контролер, проводивший обыск, нашел всего лишь несколько пачек чаю и пару узбекских лавашей.
Замполит сразу же вызвал меня к себе и потребовал объяснения.
– Тебе ничего не будет, – пообещал он. – Только скажи, кто из контролеров вынес продукты из комнаты свиданий.
– Гражданин начальник, – стал я излагать свою версию, – да это же мой чай, всего десять дней назад сестра привезла мне его на свидание.
– А узбекские лепешки тебе тоже сестра привезла? – с явным раздражением почти прокричал замполит.
– Лепешки тоже…
– Знаешь, – перебил он, – даю тебе время подумать до завтра. Если утром не скажешь правду, пойдешь работать в бригаду, и с первым же этапом отправлю тебя в лес.
Несколько секунд мы молча смотрели друг другу в глаза. Капитан Мозговой (так звали замполита) знал, чего я боялся больше всего.
Когда находился ещё на пересылке в Свердловске и не знал, в какую колонию меня отправят, в камере сдружился с одним парнем, который шёл из лесной зоны.
– Если попадёшь в лесную командировку, держись, – наставлял он тогда. – Как бы тяжко тебе не было, смотри, не вздумай ломать себе руки или ноги, чтоб попасть в больничку.
– Неужели там, действительно, так тяжело? – недоверчиво спросил я.
И он рассказал:
– Уж на что я здоров был. Представь, чемпионом по боксу в тяжёлом весе был, думал, мне всё ни по чём, а в лесу сломался. Голодали так, что однажды нашли поганки – знали, что поганки – но сварили и съели. Когда отец приехал ко мне на свидание через восемь месяцев, увидев меня, он заплакал.
Вернувшись в барак от замполита, в ту ночь я долго не мог заснуть. «Сказать – значит преступить барьер, которого еще ни разу в жизни не переступал. Всем станет известно, что я сдал узбека и контролера Васю. Но если отправят в лес, досрочно уже никогда не освобожусь, усилия сестры и родителей пойдут прахом».
Перед глазами в который раз всплыло последнее мгновение разговора с капитаном, когда наши взгляды встретились. Мне показалось, в его взгляде были одновременно вопрос и ответ: «Выстоишь? – Если выстоишь, я буду доволен».
Однако, чуть позже, хоть и косвенно, я все-таки стал доносчиком.
Вскоре после того, как Дмитрича перевели в Тверь, заведующим клубом назначили Алексеева. Я очень сдружился с ним. В «той» жизни он окончил юридический институт и работал на какой-то должности в прокуратуре. Был чрезвычайно серьезным, дисциплинированным и работоспособным человеком. Все дела клуба были у него в идеальном порядке. Кроме того, он еще успевал делать различные контрольные работы и писать рефераты за нескольких офицеров, заочно учившихся в юридическом институте.
Не помню уже, из-за чего у него произошла стычка с капитаном Пиксиным, но они стали лютыми врагами.
Спустя несколько дней Алексеев объявил мне, что решил написать жалобу на капитана Пиксина в Прокуратуру РСФСР. А еще через неделю-две у него созрел новый план: писать жалобу на всю администрацию колонии и предъявить ультиматум – либо они его выпускают, либо он дает этой жалобе ход.
Я попытался отговорить его, но он был полон решимости. Помню, подумал тогда: «Этот год, точно, серым и скучным уже не будет».
И хотя весь собранный им компромат был чистой правдой, у него не было свидетелей подтвердить его. Наверняка не нашёлся бы такой смельчак. Например, он писал, что Пиксин посадил в изолятор хромого, тщедушного паренька из-за того, что тот не выполнил дневную норму по вязке сеток. «Да и как он мог выполнить эту норму, – писалось в жалобе, – когда у него все сетки, даже еще недовязанные, отнимали те, кто посильнее. Паренек повесился в изоляторе. А ведь ему оставалось до освобождения всего два дня».
Кто бы подтвердил такое?
Или еще пример. Пиксин как-то объявил, что никакой еды из столовой выносить он не позволит. И если же кто-то попадался ему с миской супа, этот суп он сам и не однажды прилюдно выливал нарушителю в штаны.
Подобных фактов в жалобе было много, но кто-то же должен был их подтвердить.
Я сам однажды видел из окна библиотеки, как днём, когда все были на работе, Пиксин подвёл кого-то к территории изолятора и позвонил, чтобы открыли калитку. Неожиданно парнишка, которого он хотел посадить, видно, испугавшись, стал отчаянно упираться и упал на землю. Пиксин оглянулся по сторонам. Я сразу же присел на корточки и уже сквозь щёлочку в занавеске продолжал наблюдать за происходящим. Не увидев никого, он несколько раз с силой ударил паренька правой ногой. Потом узнал, что он выбил ему зуб. Но подтвердить это – такое не приснилось бы мне даже в страшном сне.
Доказательства – как с неба свалились.
Однажды в библиотеке ко мне подошел паренек. Он был единственным из осуждённых, который работал в бухгалтерии. В разговоре незаметно стал жаловаться на начальство. Его, мол, обещали освободить досрочно и «кинули». Рассказал, что сделал десятки копий липовых нарядов, и теперь, хочет насолить начальству, но не знает как.
Мне не оставалось ничего другого, как направить его к тому, кто знал, как насолить. Что я и сделал.
Жалобу, написанную на пятидесяти листах, я отдал сестре на свидании и попросил до моего сигнала в прокуратуру не отсылать.
А на следующий день Алексеев предъявил начальству свой ультиматум. С этого момента радиорупор в колонии не умолкал: «Заключенный Алексеев, явиться к начальнику колонии!», «Заключенный Алексеев, явиться к замполиту». Его вызывали в штаб по пять-десять раз в день. Он оказался в самом центре внимания, десятки глаз следили за каждым его шагом и действием, особенно за тем, с кем он общается.
Когда нам удалось поговорить наедине, он предложил:
– Конечно, я понимаю, ты рискуешь. Я-то знаю, чего добиваюсь, а ты? Пойди к замполиту и пообещай ему постараться узнать, что я написал про него в жалобе. Он наверняка это оценит.
Замполит, внешне и не проявил интереса к моему предложению; но, когда, через несколько дней, пришел к нему с «добытой информацией», выслушал меня с большим вниманием.
Вскоре Алексеева посадили в штрафной изолятор. Замполит же, вызвав меня, сказал, чтобы я снова временно исполнял еще и обязанности заведующего клубом.
Какое-то время я прятал в укромном месте над дверью копию жалобы, затем разорвал ее и выбросил в туалет. На следующий день капитан Пиксин сделал обыск в клубе. Встав на табуретку, он тщательно прощупал то место, где еще вчера была спрятана жалоба.
Все в колонии считали, что у него особое чутье, особый нюх. Представляю, каким бы удовольствием было для него лишний раз подтвердить эту репутацию: найти и положить на стол начальника жалобу, а незадачливого библиотекаря, до выяснения обстоятельств, водворить в штрафной изолятор.
В изолятор он посадил меня лишь однажды – за опоздание на проверку. Случилось это в субботу, когда никого из начальства, кроме него не было.
На дворе стоял холодный уральский март месяц и контролер, видимо, пожалел меня и не снял меховую безрукавку, которую я носил под хлопчатобумажной курткой. Эту безрукавку передал через сестру друг моего детства Рязанчик, и она здорово выручала меня в зимнее время.
В одиночной камере, куда меня поместили, было по-настоящему холодно. Помню, я подумал тогда: «Что бы я делал без этой безрукавки?»
За две бессонные ночи, проведенные в ШИЗО (в понедельник, как только вышел на работу замполит, меня сразу выпустили) мне удалось забыться сном в общей сложности на полчаса или час. Тогда-то я и ответил себе на вопрос: почему многих ребят, отсидевших 15 суток в изоляторе, иногда сразу и не узнать в лицо.
В день приезда комиссии из Москвы я случайно оказался в штабе. Начальник колонии и его заместитель по режиму, кабинеты которых были почти рядом, разговаривая по телефону, так кричали друг на друга, что слышно было, по-моему, в отрядах. Если кто и не слышал, дневальные, конечно же, всем передали их разговор.
Кончилась эта история тем, что в журнале «К новой жизни», который распространялся по всем колониям страны, появилась заметка «Клевета». В ней упоминалась и моя фамилия. Ведь я, вместе с другими осуждёнными, засвидетельствовал перед комиссией, что все написанное в жалобе – ложь. И это была единственная правда в заметке, всё же остальное вкратце выглядело так: осуждённый Алексеев, исполнявший обязанности заведующего клубом, в нарушение режима содержания, носил телогрейку не чёрного цвета, как положено, а синего. Какое-то время начальство колонии закрывало глаза на это нарушение, и Алексеев возгордился, возомнил себя не таким, как все. Когда же капитан Пиксин потребовал от него не нарушать форму одежды, осуждённый Алексеев начал писать на администрацию колонии клеветнические жалобы. В конце заметка призывала администрации всех колоний строго соблюдать режим содержания осуждённых и не давать никому никаких поблажек, независимо от выполняемой работы.
Алексеева же первым этапом, прямо из изолятора, отправили в лесную зону.
Через полгода сестре удалось добиться в Управлении лагерями моего перевода в Тверь, в ту же колонию, где находился Дмитрич.
Перед самым отъездом, когда я сдавал дела, замполит сказал:
– Мне нравилось, как ты работал, хотя, говорят, помогал Алексееву писать жалобу, продукты из комнаты свиданий выносил, даже в карты поигрывал.
– Да, гражданин начальник. Вы же знаете, как москвичей здесь любят, они же просто…
– Да вот и я им тоже сказал, – перебил он меня, – а доказательства у вас есть?
Этап. Переполненные вагоны, бесконечные обыски, солдаты с собаками, многодневные ожидания, когда же выкликнут твою фамилию, напряжение от неведения, что случится в следующую минуту…
Вместе со мной в большую сборочную камеру только что затолкали человек пятьдесят-семьдесят. Нет ни новичков, ни старичков, никто никого не знает. Проходит минут десять, и вот уже образовывается несколько групп. Затем человек шесть садятся за стол посреди камеры, остальные, не разговаривая друг с другом, стоят вдоль стен.
Еще через полчаса, поглядев на сидящих за столом, никак не скажешь, что они только что познакомились. Звучат имена, клички, названия лагерей, где сидели, фамилии начальников. И вот у них появляется лидер – высокий парень лет тридцати-тридцати пяти с лицом восточного типа.
– Ну что, мужики, в углы позабивались? – спрашивает он. В его голосе чувствуются власть и сила, и звучит он, как в тишине театрального зала, доходя до каждого уголка. – Сейчас казаков созову, сабли навострю…
Я знаю, он обязательно подойдет ко мне: ведь ни у кого ничего нет, а у меня две большие сумки. Через некоторое время он, действительно, подходит ко мне. Безо всяких угроз начинает расспрашивать, кто я, кем был в лагере, какая статья, какой срок.
Дальше происходит то, чего со мной никогда не случалось ни до этого разговора, ни после. Верхняя губа начала дергаться, я почувствовал, что не в силах закрыть рот. Так и стоял с открытым ртом.
– Ты что, земляк, такой нервный? – спросил он.
В тот момент я наконец-то смог закрыть рот. Он спросил ещё о чём-то и отошел. Вероятно, я показался ему психически ненормальным. Может, это меня и выручило?
Странно, ни родные, ни друзья мне не снились, я спал всегда очень крепко. Но регулярно, раз в три-четыре месяца мне снилась моя первая северная любовь. Сновидение всегда было одним и тем же: я ехал ее искать, мне говорили, что она в другом месте, но и там я ее не находил и во сне не видел. В конце концов, результатом этих сновидений стало решение написать ей. Никогда не записывал ее адрес, не пытался запомнить его, но он вдруг всплыл в памяти, хотя после нашей последней встречи прошло около девяти лет.
Через месяц пришел ответ, но не от нее, а от ее подруги. Письмо было туманным, его суть сводилась к тому, что она меня помнит, но сейчас временно живет в другом городе и ей, при случае, сообщат мой адрес.
Почему-то заподозрил, письмо от имени подруги написала она сама. Такая «игра», как мне казалось, была в ее характере. Но какое пламя вспыхнуло во мне! Сколько воспоминаний, сомнений и догадок породило оно! Я советовался с приятелями, подробно рассказывая каждому о всех тонкостях наших отношений, и всем задавал один и тот же вопрос: «Сама она ответила или нет?» Мнения были разные, и это разжигало меня еще больше.
Теперь прошлое целиком занимало мое воображение. Мысли – «а счастье было так возможно», близко, и все в моей жизни могло пойти по-другому, не будь я таким глупцом, стали терзать меня постоянно.
Спустя несколько дней написал ответ. Эти три слова – «она вас помнит» – сделали меня буквально одержимым. Второе письмо, которое просил передать ей, было письмом безумца. Я объяснялся в любви, говорил, мне все равно, где жить, лишь бы с нею. И сам верил в это, как и в то, что впереди у меня еще пять лет такой переписки.
А на какие вдохновенные строки оказался способным мой воспаленный ум! Наверно, именно тогда окончательно укрепился во мнении – мне обязательно надо попробовать писать.
Ответ пришел только месяца через два. Когда распечатывал конверт, руки тряслись, как у алкоголика, держащего стакан водки. На сей раз послание было от… ее мужа. Он не угрожал, скорее укорял, что я разбередил ее душу, и это жестоко. О себе сообщал, между прочим, что не особо удачлив, златых гор ей не дал.
Меня стала мучить мысль, что мои письма к ней не попадают, меня кто-то разыгрывает. Недолго думая, отправил еще одно письмо с кучей дурацких вопросов, они касались наших отношений, о них знала только она.
В ожидании ответа превратился в лунатика, со всеми мог говорить только на одну тему.
Третье письмо, наконец-то, было написано ею. Ни на один из моих вопросов не ответила, но прислала фотографию, которую я просил еще в первом письме. Фотография была очень маленькой и выцветшей.
Писала, что ей уже двадцать девять, давно замужем, у нее есть семилетняя дочка и, вообще, в жизни у нее много чего было и вряд ли между нами что-либо возможно.
В её ответе уловил оттенок сожаления. Тут же написал ей, что её прошлое не имеет для меня никакого значения, сам я во сто раз хуже. Всегда буду любить её и дочку. Выслал ей бандероль, где вместе с письмом послал кассету.
Дело в том, что о моей переписке знало уже пол-лагеря. Лагерный поэт написал стихи, музыканты сочинили мелодию, и получилась песня, которую я записал на пленку. Припев там был такой:
Нет, я вернусь, хотя бы для того,
Чтоб станцевать с тобой последний танец.
Ведь это память, прошлое моё,
Моя любовь, по имени Светлана…
Теперь-то знаю, что главное
«Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего ещё не знает так, как должно знать.»
Первое Коринфянам, 8, 2
Родные не прекращали попыток вырвать меня из лагеря: искали человека, который помог бы в этом.
Муж моей сестры работал таксистом, и однажды вез мужчину, который оказался профессором Института международных отношений. Они обменялись номерами телефонов. Вероятно, Юрию Вадимовичу (так звали профессора) понравилась обязательность моего зятя, и он часто звонил ему, когда требовалась машина. Профессор не скрывал, что имеет обширные связи, поэтому сестра сделала все возможное, чтобы сблизиться с Юрием Вадимовичем. Несколько раз приглашала его в гости, познакомила с матерью. Когда они рассказали ему обо мне и попросили помочь, он пообещал посодействовать попасть на прием в отдел помилования Президиума Верховного совета РСФСР.
Прошел год. Сестра почти потеряла надежду, но все равно продолжала напоминать о себе каждый месяц, и всякий раз профессор просил подождать. «До тех пор буду звонить, пока ни скажет “нет”» – говорила она.
На прием в отел помилования отец с матерью пошли вместе. Отец, после инсульта, когда сильно волновался, не мог говорить, поэтому в последний момент решил в кабинет не входить, подождать в коридоре. Мать же приготовила большую речь, но разрыдалась и не смогла произнести ни слова.
Ее слезы и терпение сестры вырвали меня из лагеря почти на четыре года раньше срока. Мама особенно тяжело пережила случившееся со мной.
Не помню, когда именно – во время одного из свиданий или уже после моего возвращения – она сказала, что считает себя виноватой в случившемся со мной, что это наказание от Бога. В подтверждение поведала историю, которая произошла с ней давным-давно.
В самом начале войны ее вызвал оперативный работник НКВД.
– Мы знаем, – сказал он, – что ваша свекровь – немка, знаем, что у нее два сына на фронте. Мы к ней никаких претензий не имеем. Нас интересует её знакомая. Вы должны сблизиться с ней. Вы работаете шофёром, привезите ей дрова. Мы дадим вам дров. Постарайтесь узнать, как она настроена.
Мать рассказала мне эту историю только один раз, всех деталей не запомнил, не помню, и как объяснила свое согласие выполнить их задание. Кажется, намеревалась дать какую-нибудь пустяковую информацию, просто чтобы отделаться. Представляю, что она испытывала. Немцы приближаются к Москве. Свекровь – немка. Среди знакомых есть немцы. Повсюду ищут шпионов и диверсантов, при малейшем подозрении можно поплатиться жизнью.
Мать сделала все, как велел оперативник. Два-три раза привезла дрова той женщине. Завела разговор «по душам», спросила, что она будет делать, если в Москву войдут немцы. Женщина сказала, если её возьмут на работу, станет делать для них все, что сможет – стирать белье, готовить, убирать.
Через месяц оперативник вызвал мать вторично, и она сказала, что ничего подозрительного не заметила, но в точности передала разговор с той женщиной. По требованию следователя она дала письменные показания.
– Через некоторое время, – рассказывала мама, – я узнала, что той женщине дали десять лет. Меня даже не вызвали на суд, не знаю ее судьбы. Возможно, я сгубила ее. Вот и думаю: то, что случилось с тобой, – наказание от Бога за мой великий грех.
Видно, повторившееся и в моем приговоре число «десять» стало для нее печатью Божьей кары, в ожидании которой она прожила тридцать лет.
Моя память навсегда запечатлела мать во время объявления приговора. Казалось, какая-то сила тянула её вниз, в пучину, а она судорожно старалась, схватить глоток воздуха, и не могла.
Я поклялся сделать для матери все, что в моих силах. Чувствовал себя в неоплатном долгу перед ней. Ко мне вернулись детская нежность и любовь.
Что же, может быть, с философской точки зрения это не потерянные годы: увидел жизнь и с другой стороны, освободился от кривых очков, через которые смотрел на мир. Теперь-то я знал, что есть главное и что второстепенное.
Основные выводы, которыми решил руководствоваться, были ясно обозначены в моем сознании.
Первое. Самые драгоценные друзья, которые не бросили меня в тяжелую минуту – родные, а мать – просто святая для меня.
Второе. Никогда больше не оказаться снова рабом водки. Во всем аккуратность и трезвая голова. Самодисциплина.
Во что бы то ни стало, восстановиться в институте и окончить его. Этим доказать, что шесть с половиной лет лагеря не сломили меня.
Насчёт женщин решил: не буду больше гоняться за красавицами, найду какую-нибудь попроще, но, чтобы была моя и всегда под рукой.
Часто, особенно в первые годы, пытался представить, каким снова увижу наш сад, как постучу, и мать откроет мне дверь. Стихами не увлекался, и лишь одно стихотворение знал наизусть. Слова из него: «Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад» – не однажды приходили на память. Вспоминал и солнечный апрельский день, когда ушёл из родительского дома, не зная, что в него уже не вернусь.
Я вернулся, но ни «белого сада», ни родительского дома уже не было. За эти годы наш старенький домик в Лосинке пошел на слом, родителям дали крошечную квартирку на девятом этаже двенадцатиэтажной башни в Свиблово.
Я приблизительно знал этот район. Назвал таксисту адрес. Оказалось, к дому подъехать невозможно: там прокладывали линию метро, и вся улица была перерыта. Расплатился, вышел из такси, посмотрел по сторонам. Вдруг слышу, кто-то выкрикивает мое имя каким-то неестественным надорванным голосом. Оглянулся. Через улицу, на балконе башни, стоит отец. Размахивая руками, кричит мне так, будто не слышу его, сейчас сяду в машину, уеду, и он уже никогда меня не увидит…
Через минуту я был уже в лифте. Всё с чем возвратился к старикам, было при мне – сатиновые брюки, аккордеон и сто рублей, заработанные честным трудом.
Отец обнимал меня и плакал. С матерью-то мы виделись, она приезжала на свидания, он же меня ни разу не видел за все эти годы. Ни в тот день, ни потом, я ни разу не почувствовал и тени упрёка или раздражения с их стороны за причинённую им боль. Они простили меня.
Почти неделю не выходил из дома и не звонил никому из друзей. Родители сразу же сказали, чтобы ни о чем не беспокоился и не искал работы, пока не приду в себя. Мать советовала полгодика отдохнуть. Несколько раз мы устраивали застолье, и спиртное, имевшееся в доме, быстро кончилось.
Если память не изменяет, впервые вышел из дома в магазин. Был обеденный перерыв, и я попытался воспользоваться служебным входом. Там стояла женщина довольно странного вида. Почему-то подумал, она может помочь мне. Действительно, очень быстро и всего за рубль сверху, получил бутылку водки. Мгновенно, не задумываясь, сказал ей, что, если она так быстро решает все вопросы, может быть, устроит мне свидание с какой-нибудь девушкой.
Женщина могла ответить «нет», и моя судьба была бы иной. Но она показала на беседку во дворике и сказала, что, если мне не хватает одной до миллиона, завтра в час дня могу увидеть там эту девушку.
На следующий день, надев великоватый зелёный двубортный костюм, который купили мне родители, в назначенное время пришёл в беседку. По дороге заметил, что вокруг меня подобных костюмов никто не носит. Ко мне подошла симпатичная девушка и критически осмотрела меня. Мы договорились встретиться вечером.
Вечером же она заявила, что занята. Невольно подумал, мой зелёный костюм виноват.
– Если хочешь, познакомлю тебя с подругой, – предложила она. – Только надо купить вина и что-нибудь на ужин.
Первая встреча с Ольгой запечатлелась в памяти, будто я специально все запоминал, а потом еще и записал в дневнике.
С симпатичной девушкой мы подошли к большому дому, вошли во двор, который потом я исходил вдоль и поперек тысячу раз.
– А вот и Ольга, – сказала моя спутница, указав на… Что может сделать с женщиной одежда! Она может сделать её на полметра выше и наоборот. Это был как раз тот случай, когда наоборот.
Ольга показалась мне каким-то мальчиком, подростком. Никогда не обратил бы внимания на нее, как на женщину, но ноги мои уже вошли в подъезд и поднимали меня по лестнице.
Мы не растягивали удовольствие, и выпили две бутылки красного, как люди, испытывающие жажду, пьют минеральную воду. Сегодня, вспоминая тот вечер, будто смотрю фильм о самом себе.
Следующий кадр. Ольга свернулась калачиком и спит на диване – одном из трех предметов мебели, в её комнате. Раскрасневшаяся подруга смотрит на меня и спрашивает:

