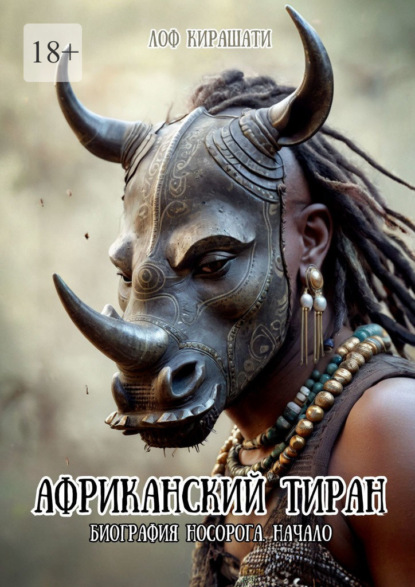
Полная версия:
Африканский тиран. Биография Носорога. Начало
– Скрываться… – поправила она.
– Хорошо, пускай скрываться. Сути это не меняет. Про Кисиву никто не знает, и мы считаем, что это хорошо.
– А что в этом плохого? – Вереву подложила под спину подушку.
Она сидела напротив него, в кресле, приняв расслабленную позу, за которой угадывалось напряжение. Неужели теперь его присутствие заставляет даже знакомых людей зачем-то нервничать и всячески это прятать? Или скрывать?
– Как вы, должно быть, знаете, мне по роду занятий последнее время пришлось немало покататься по нашему острову, и я пришёл к выводу, что…
– Кто тебя научил так выражаться?
Она не возмущалась, она подшучивала. Во всяком случае, глаза её смеялись.
– Говори проще, Кифару. Я тебя и так отлично понимаю. Ты ведь сейчас не на работе.
– Тоже верно. – Он улыбнулся в ответ. – Я хотел сказать, что нам было бы неплохо завести собственные деньги.
– Ты имеешь в виду «напечатать»?
– Ну да, напечатать.
– Зачем?
– Затем же, зачем нам нужен собственный язык. Можно, конечно, говорить до гроба на суахили, но мы же этого не делаем. Мне казалось, что деньги, как и язык, это часть культуры.
– Тут бы я с тобой поспорила, разумеется, но не стану. – Вереву прислушалась к кашлю отца за стеной. – Думаю, ты понимаешь, что «напечатать деньги» стоит денег?
– Конечно. Я не об этом. Это дело десятое. Я о принципе.
– О принципе?
– Да, о принципе этих самых денег. Вы ведь нам в школе про это рассказывали, правда, рассказывали как детям.
– Вы и были детьми, если мне не изменяет память.
– Именно. А теперь я бы хотел, чтобы вы объяснили мне взрослым языком. Ведь деньги откуда-то берутся. И сколько бы мы их ни тратили, они никуда не деваются.
– И это их главная беда.
– В смысле?
– В смысле, что когда денег становится больше, они делаются дешевле, то есть теряют в цене. В учебниках это объясняется «девальвацией».
– Слышал, представляю себе. Но не очень хорошо представляю себе причину.
– Ты же сам совершенно правильно назвал кенийские деньги «бумажками». В Уганде деньги ещё больше бумажки.
– Почему?
– Потому что их стоимость не определяется ничем, кроме «рынка». А рынок сегодня – это обычная политика. То есть если страна котируется в мире, если её почему-то уважают, то уважают и её деньги. Если нет – её деньги никому не нужны.
– Поэтому в цене доллары и фунты?
– Можно сказать и так. Хотя и они тоже с некоторых пор бумажки.
– С каких?
– Когда были откреплены от золота.
– Как «откреплены»?
– История долгая, – вздохнула Вереву. – Скоро уже лет сто как американцы приняли решение о том, что унция золота будет стоить тридцать пять долларов, а все остальные валюты должны к их доллару привязываться. Но такая ситуация мешала банкам, уже тогда начинавшими владеть странами вместе с их правительствами, печатать столько денег, сколько им было нужно. Поэтому постепенно снова всё свалили на «рынок», и доллар по отношению к золоту стал дешеветь. Несколько лет этот процесс для видимости сдерживали, однако в Лондоне унция уже ходила по сорок, если не ошибаюсь, долларов. Банки закричали, что нужно спасать экономику, хотя спасали, даже крокодилу понятно, именно их, а никакую не экономику. Потому что когда доллар от золота всё-таки отвязали, он стал окончательно превращаться в бумагу, которой сегодня нужно в пятьдесят раз больше, чтобы эту самую унцию купить.
– В пятьдесят!
– У тебя, помнится, считать неплохо получалось. Раздели сегодняшнюю цену за унцию в почти две тысячи долларов на тридцать пять, вот оно примерно пятьдесят и получится.
– Где-то пятьдесят четыре, – прикинул в уме Кифару.
– Ну, вот видишь.
– Да, ну и дела…
Она ждала, не зная, достаточно ли его просветила и может ли вернуться к собственным проблемам.
– Если не ошибаюсь, Вереву, вы сами только что упомянули, мол, деньги котируются тогда, когда котируется страна.
– Так и есть.
– Но в таком случае я тоже прав, потому что наша Кисива и денег не имеет, и, мягко говоря, не котируется.
– Хочешь вернуться к началу разговора? Ну зачем, скажи на милость, нам «котироваться»? По-моему, нам и так неплохо.
Кифару невольно ещё раз оглядел скромную обстановку.
– А по-моему могло бы быть гораздо лучше, – ответил он, не сразу заметив неловкость ситуации. Получалось, будто он критиковал чужой дом. Поправился: – Не для этого наши предки спускались с Килиманджаро.
– Не наши, а твои, – тихо заметила Вереву.
Она, разумеется, всё знала.
– Это не имеет значения. Вы ведь понимаете, что я хочу сказать, только почему-то не хотите в этом признаться.
– Тавтология.
– Кто?
– Тавтология. Ты два раза подряд употребил «хотеть».
Она ставила его на место. Конечно, в шутку, просто уходя от ответа, но ему сейчас было нужно другое.
Кифару посмотрел на свою бывшую учительницу пристально, как умел только он.
– А можно деньги обратно к золоту привязать?
Вереву прочитала в его взгляде не детское любопытство, но желание понять.
– Можно. Хотя сегодня принято считать, что нельзя. Потому что жизни теперь учат банки.
– И что для этого, по-вашему, нужно?
– Золото. Много золота.
– Сколько?
– Достаточно, чтобы его эквивалента в виде напечатанных один раз бумажек хватило на всё население страны.
– У нас не такое уж и большое население, – заметил Кифару.
– Да, но золота нет вовсе.
Он не собирался посвящать её в детали. Он пришёл понять принципы.
– Предположим, что я его где-нибудь достану. Что делать дальше?
– По пунктам?
– По пунктам.
Вереву рассмеялась, впервые с начала их разговора искренне и заливисто. Видимо, его просьба так её озадачила, что она на мгновение позабыла про отца.
– Хорошо. Собираешь всё золото, которое найдёшь. Желательно в одном месте и желательно в таком, чтобы его никто не смог бы украсть, но при этом все бы знали, что оно там есть.
– Понятно.
– Затем придумываешь деньги: название, картинки, номинал для каждой купюры. Печатаешь их где-нибудь в третьей стране, где есть соответствующее оборудование, бумага и краски. Привозишь обратно. Открываешь государственный банк. Деньги раздаёшь населению, чтобы оно могло ими пользоваться. Пришедшие в негодность банкноты принимаешь, заменяешь новыми и уничтожаешь. Чтобы количество денег относительно массы золота не менялся.
– То есть, я правильно понимаю, что в таком случае любой сможет за эти новые деньги купить себе часть этого самого золота?
– Теоретически да. Иначе бы никакой «привязки» не получились. Золото в хранилище банка является гарантией ценности ходящей по рукам бумаги. Если в банк приходит покупатель и хочет обменять свои бумажные деньги на настоящее золото, он должен иметь право это сделать. Иначе система не заработает.
– А почему вы сказали «теоретически»?
– Ну, ты же не хочешь, чтобы хранилище банка в один прекрасный день опустело? Для избегания подобной ситуации давно придуманы разные способы. Например, банк, точнее правительство в его лице, может постановить, что да, любой житель острова может купить золото, но только, скажем, не меньше килограмма. Или десяти. Но десять килограммов – это не те деньги, которыми будет обладать даже самая зажиточная семья. Обычная психология. Человек знает, что купить может, хотя на самом деле не может. Золото остаётся в банке, большая часть населения от него как бы отсекается, но при этом право на покупку – вот, пожалуйста, сколько хотите.
– … только не меньше килограмма, – восхитился такой простой идее Кифару.
– В начале прошлого века, когда закончилась первая мировая война и запасы золота сильно оскудели, в Европе постановили, что золото теперь продаётся только в слитках и только, если не ошибаюсь, весом в двенадцать с половиной килограммов.
– Ничего себе!
– Плохо такими мерами заканчивать, то есть прибегать к ним тогда, когда другие способы сохранить золотой стандарт просто не действуют. А вот если сразу ограничения установить, никто лишний раз не задумается.
Зато задумался Кифару. От разговора с учительницей он получил даже больше, чем ожидал. Она будто знала, что он придёт, и специально подготовилась. Он этого не забудет.
– Спасибо вам за науку.
Кифару встал.
Вереву проводила его до улицы. Сказала на прощанье:
– Будь осторожен.
– Кстати, я там кое-что на диване оставил, – спохватился он.
– Ой, сейчас принесу!
– Нет, нет, Вереву, это я вам оставил. Вы мне очень помогли.
– Да брось ты, Кифару!
Он ответил ей улыбкой, пожал тёплую ладонь и направился в гости к Абрафо – единственному, кому мог доверить свою новую тайну.
Золотодобытчики
Овраг тянулся на добрых два километра.
– Раньше тут была река, – уверенно предположил Абрафо, когда они дошли до его дальней части, заканчивавшейся ничем.
– С чего ты взял?
– Все овраги были когда-то реками.
– По-твоему, земля сама не может треснуть?
– Может, но тут точно была река. Посмотри на эту гальку. Она гладкая, значит, обточена водой.
С последним доводом было трудно не согласиться.
– Река-то и намыла твоё золото, – продолжал рассуждать Абрафо, присаживаясь на корточки и шебурша пальцами в траве.
– Наше золото, – поправил приятеля Кифару.
– Которого тут нет, – подвёл тот итог своим тщетным поискам. – Наверное, оно там, где русло было глубже.
– А ты вот, держи-ка. – Кифару торжественно вручил ему лопату, которую всю дорогу нёс на плече. – Побудь рекой – копни поглубже.
Абрафо оскалился, демонстративно плюнул на ладони и принялся за работу.
Глядя на него, Кифару думал о том, как обезопасить овраг от вмешательства посторонних. Поскольку на острове посторонних не было и быть не могло. Остров принадлежал им всем и никому в отдельности. С одной стороны, никто не имел права забрать у него то, что он найдёт, но и он точно так же не имел права громко сказать, мол, моё, не трогайте и даже не подходите. В лучшем случае его бы просто не поняли. А если бы поняли, что он не шутит, призвали бы к ответу. И неважно, что старейшины кашляют и вот-вот помрут – их власти вполне достаточно, чтобы как следует попортить ему жизнь. Вплоть до изгнания, чего прежде не случалось, но кто знает – начать-то никогда не поздно.
По дороге сюда они этот вопрос обсуждали, и Абрафо предложил сказать, будто овраг оцеплен, поскольку в нём обнаружено несколько семейств опасных крокодилов. Отчасти он был прав: перекрыть овраг непременно стоило, это дало бы им некоторое время на быстрое прочёсывание территории, однако совсем не достаточно, чтобы выбрать всё. Для этого тут потребуется в прямом смысле надолго окопаться, а любому понятно, что с лопатами на крокодилов не охотятся и землю ради этого не роют. По крокодилам стреляют. Значит, сразу же появятся многочисленные любопытные, и всё всплывёт наружу.
Просто взять и купить овраг он тоже не мог – за неимением продавцов. Был необходим убедительный повод, который бы разом отбил у всех обитателей Катикати и соседней Киджиджи охоту совать сюда нос, пока ведутся работы.
– Похоже, ты был прав.
Абрафо стоял над горкой выкопанной земли, которую только что тщательно обследовал, и показывал небу вполне внушительный слиток размером почти с перепелиное яйцо.
– Если так пойдёт дальше, нам понадобятся не сумки, а мешки.
Кифару читал, что у американских золотоискателей при виде настоящего золота начинали трястись руки, пересыхало горло, и они приходили в безумную радость. Абрафо выглядел довольным, но даже наполовину не настолько, насколько радовался в детстве удачно забитому голу. Видимо, он не до конца понимал важность находки. И её цену. Это давало надежду.
– Я даже на полотно 18в землю не вошёл, – продолжал Абрафо. – Думаю, чем глубже от поверхности, тем его больше. С нашего конца овраг наиболее глубокий, поэтому золото прямо под ногами. А тут придётся чуток копнуть, но зато теперь мы знаем, что те самородки, что валялись у свалки, не случайные. Овраг, братец, считай что золотой.
– Возможно, не только овраг, – оглянулся на пальмовые заросли Кифару. – Только представь, если золото лежит на глубине по всему острову!
Абрафо представил, но сразу же прогнал соблазнительную мысль прочь:
– Когда тебе близнецы подвал рыли, много золота нашли?
Кифару об этого ничего не было известно.
– То-то и оно.
– На эту тему лучше с Имаму переговорить. Он кое-что в таких вопросах смыслит.
Имаму стал третьим, кого он посвятил в своё предприятие.
– Золото обычно залегает жилами, – сказал тот, с интересом разглядывая разложенные по столу самородки.
Разговор происходил у Кифару дома, за закрытыми дверьми.
– Поэтому имеет смысл первым делом полностью освоить овраг. Возможно, нам с ним просто повезло, и у нас такая жила одна-единственная.
– Нам бы повезло гораздо больше, если бы она была не одна, – покачал головой Кифару и в нескольких словах пересказал то, что понял со слов Вереву.
– Так ты решил собственные деньги запустить?! – воскликнул Абрафо. – Отличная идея! Закажем красивые, с картинками, от носорога до футбольного мячика. Или с нашими портретами. Ведь мы же золото нашли.
– Вообще-то его нашёл Фураха, – заметил Кифару и добавил: – Так что теперь я вообще не знаю, кому это золото должно принадлежать. – Он посмотрел на Имаму, призывая его присоединиться к обсуждению и высказать своё свежее мнение. – Когда народ прослышит о золоте, овраг разгребут за полдня.
– Не разгребут. – Имаму задумчиво складывал золотые камушки в узор. – Вон Абрафо прослышал – и ничего. Я прослышал – и тоже не бегу домой за лопатой. Золото на большой земле в почёте. У нас его, сам знаешь, не до конца понимают. В хозяйстве оно не пригодится, разве что как украшения, но украшения – это не хозяйство, а блажь, так что…
– Но могут как раз на большую землю слухи и донести.
– Это да. Тогда нам тут точно несдобровать. Те же кенийцы нагрянут уже не с автоматами, а с пушками.
Друзья замолчали, разглядывая стол.
У Имаму получилось выложить на его поверхности нечто вроде большого ууме. Когда Абрафо ему со смехом об этом намекнул, Имаму обиделся и сказал, что это просто башня. Как та, под которой они сейчас сидят.
– Всё равно ууме, – настаивал Абрафо. – Кифару, скажи ему, что ты на самом деле строил не башню, а большой-пребольшой кол, который показываешь Уганде и вообще всем нашим соседям.
Как оно часто бывает в жизни, разрядка и отвлечение внимания помогли вернуть излишне напряжённую мысль в правильное русло. Первым очнулся Имаму.
– Погоди, Кифару, ведь ты, если я правильно понял твой разговор с Вереву, собираешься золото не себе забрать, а всем раздать. Только бумажками, а не самородками. Верно?
– Ну, вообще-то да. Самородки придётся переплавить в слитки и хранить в надёжном месте. Или в нескольких.
– В таком случае, я не вижу больших сложностей начать добычу прямо сейчас. Мы же не будем ни у кого воровать. А народу если это на пальцах объяснить, он тоже не дурак, поймёт.
– Что поймёт?
– Что золото у него не забирается, а собирается, ему же во благо. Чем больше мы золота складируем, тем весомее будет наше царство-государство. Вон у мировых держав оно сотнями тонн измеряется, но и жителей там сотни миллионов. А у нас? Если мы хотя бы тонну отроем, в пересчёте на одного человека это будет несметное сокровище. Ловишь мою мысль.
– Ловлю, – оживился Кифару. – Вот только народ у нас разный и мыслит по-разному. Кто-нибудь наверняка смекнёт выгоду, захочет, раз такое дело, собственное золотишко найти да сбагрить его кому-нибудь в той же Кении. А там возникнут справедливые вопросы, мол, как да откуда. И снова мы утыкаемся в пушки с автоматами.
– Тайна нужна, – согласился Абрафо. – Не будешь же всех отплывающих рыбаков проверять, не прячет ли он под сетями пакетик с такими вот камушками.
– Не будешь. Да, задача…
Стали думать, как сделать так, чтобы всем было хорошо, но никому при этом не было лучше, чем другим, чтобы в итоге не стало хуже всем.
Помогла природа. Точнее, погода.
С приходом сезона дождей среди жителей острова всегда отмечалось увеличение количества всяких недугов, будь то ревматизм или обычная простуда. Во всяком случае, таковыми данными располагала мать Абрафо будучи местным врачом.
Теперь, когда к ней приходили с головной болью, больным горлом или насморком, она не просто давала капли или таблетки, но доверительно сообщала, что, очень может быть, источником нынешней волны заразы является не что иное, как запущенная свалка в овраге.
На уроках в школе Вереву разъясняла притихшей детворе, что выброшенное туда их родителями гниёт, а потом либо уносится дождевой водой и попадает обратно в пищу, либо в редкие солнечные дни испаряется и прямо по воздуху разносится и попадает им в носы.
Довольно быстро молва об опасном овраге разошлась по всей округе.
Со свалкой нужно было во что бы то ни стало что-то делать. Например, зарыть.
И снова добровольную помощь населению первой вызвалась оказать безкорыстная дружина во главе с Кифару и его отцом.
Да, в истинное положение вещей и задачи пришлось посвятить не только мать Абрафо и Вереву, но и бригаду копателей из наиболее доверенных бойцов, однако все они были людьми надёжными и легко контролируемыми. Кроме того, все заговорщики прекрасно знали, что ложь говорится во благо, никого специально не приходится травить, всё происходит точно так же, как происходило в предыдущие годы, только на сей раз придуман удобный «козёл отпущения», под предлогом уничтожения которого будет сделано доброе дело для всего острова и уж точно для обитателей Катикати.
Копаться в овраге стало опасно и почётно.
На отважных дружинников смотрели как на героев.
Никто из обычных жителей со своим мусором к оврагу больше не приближался, а складывал прямо перед домом в специальные пакеты, которые были закуплены Кифару и розданы просто так, чтобы утром или вечером его люди их собирали и уносили… закапывать.
Буквально за неделю овраг превратился в зону отчуждения и опасности.
Тем временем проводившиеся там работы каждый день приносили замечательные плоды. Найдённое золото уже не помещалось ни в какие банки, а складывалось в специально сколоченные деревянные ящики, которые по ещё крокодильей традиции затаскивались в подвал дома Кифару.
Это, конечно, было не дело. Кифару не собирался превращаться в сторожа золотого фонда острова. Он хотел продолжать жить свободной жизнью без лишнего внимания со стороны. Однако здравомыслие не позволяло ему теперь отказаться от круглосуточной, пусть даже неприметной охраны в лице трёх дружинников с автоматами, двое из которых прогуливались на некотором удалении по периметру, а третий дежурил прямо на крыше. Ребята за это неплохо получали и не жаловались, а вот он чувствовал себя в прямом смысле узником золотой клетки.
Изингоме и Като было дано задание рыть специальный погреб под постоянное хранилище, но они честно отказались делать это раньше, чем земля просохнет. Можно было, разумеется, работать и в дождь, под брезентовым навесом, однако тогда за надёжность постройки они не ручались. А задача ставилась, чтобы погреб прослужил века.
Во избежание простоя, они приступили к возведению дома над будущим хранилищем. Дом должен был являть собой перспективную штаб-квартиру дружины Катикати, поэтому ничто не мешало сразу сделать его большим и вместительным. Так, чтобы в итоге расположить под одной крышей драгоценный погреб, его постоянную охрану и банк.
Про банк и истинную цель погреба не догадывались даже строители, а Кифару имел моральное право никого лишнего, кроме ближайших друзей, в свои задумки не посвящать, поскольку все вышеперечисленное оплачивал практически из собственного кармана, то есть из тех денег, что удалось заработать на несчастных крокодилах.
Место для штаб-квартиры было выбрано таким образом, чтобы не вызвать вопросов даже у старейшин – на пустыре между кукурузным полем и дорогой к соседнему Киджиджи. Тут уже никто не из жителей не стал бы возмущаться, как в случае с домом самого Кифару. Тем более что кому теперь придёт в голову мешать таким отважным и полезным ребятам исполнять свою работу для всеобщего процветания?
На первичное прочёсывание оврага ушёл месяц. Перед укладкой в ящики золото взвешивалось и записывалось в специальную тетрадь, которую Кифару по примеру Чака теперь всегда носил при себе. Диктофону он эту информацию не доверял, да и считать так было сподручнее. А считать было что. Месяц работ даже по грубым подсчетам – ввиду отсутствия на острове точных весов – наполнил подвал его дома более чем тремя тоннами самородков. Мелкая шелуха тоже собиралась, промывалась и упаковывалась отдельно: её ссыпали под вечер в пластиковую канистру из-под бензина с большой крышкой. Канистра заметно тяжелела, однако взвесить её они пока не удосуживались.
За месяц определились и роли наиболее доверенных лиц. Так Абрафо теперь отвечал за старателей и добычу в целом. Вереву выступала в роли советника наравне с Имаму, который совмещал при этом должность супервайзера, перед которым отчитывался Абрафо. Отец обеспечивал общую безопасность работ и хранения. Кифару держал текущую кассу, отвечая за то, чтобы все участники процесса оставались довольны потраченным временем и усилиями. Ну и понимали, что выгоднее молчать, чем болтать лишнее.
Именно Вереву настояла на том, что прежде, чем переходить ко второй фазе, то есть к поискам, где бы напечатать деньги, необходимо выбрать из оврага если не всё, то максимальное количество драгоценного металла.
– С такими серьёзными вещами спешить вообще не следует, – заявила она на очередном совещании «тройки». – Конечно, когда появится ещё золото – если появится – транш денег можно возобновить, поскольку мы всегда сможем предъявить залог, но по сравнению с траншем первоначальным это должен быть совсем мизер.
В школе она таким языком никогда не выражалась, стараясь быть понятой детьми. Теперешнее их общение, насколько Кифару ощущал, действовало на неё вдохновляюще. Она стремилась проявить накопленные знания.
Имаму согласно кивнул.
– Кроме того, – продолжала рассуждать вслух Вереву, – нам бы в таком важном деле было бы неплохо заручиться поддержкой извне.
– Что вы имеете в виду?
– Разное. – Вереву сделала многозначительную паузу и подлила себе из термоса горячего чая. Кифару и Имаму отказались. – Во-первых, золото в таком виде оставлять не стоит. Его придётся отчищать от примесей и превращать в слитки. Именно в такой форме оно наиболее ценится в мире. А для этого нам понадобится плавильная печь. Подробностей технологии не знаю, но догадываюсь, что плавка – задача не из простых.
– Печи сегодня, как я слышал, индукционные, а тигли графитовые, – заметил Имаму. – Вдобавок понадобятся всякие хорошие смазки, которыми покрывают изложницу.
– Изложницу? – Кифару уже давно не пытался понять деталей, стараясь при этом ухватить суть.
– Ага, форму для бруска, куда заливается расплав. В Кении я такие видел у тамошних кустарей. Нелёгкая работёнка. Температура должна быть под тысячу триста градусов.
– Ну, с температурой мы как-нибудь справимся, – нахмурился Кифару, – а вот с печкой, мастерами и этими, как вы говорите, тиглями-миглями, вижу, что беда.
– Во-вторых, – продолжала вещать Вереву, – печать денег. Если плавку мы у себя в итоге организуем, то, думаю, всем должно быть понятно, что печатный станок мы на остров ни под каким соусом не затащим.
– Почему?
– По тому, что называется «технологией». Если бы из этого самого золота монеты штамповали – ещё куда ни шло. Но для денег нужны специальные краски, специальная бумага, формы, оттиски – одним словом, нам просто так не освоить. У нас даже компьютера нет, чтобы разработать дизайн. Поэтому я и говорю о помощи извне. Кифару, помнится, к тебе не так давно гость откуда-то приезжал. Ты с ним общаешься?
– Мистер Стэнли? С тех пор, как он уехал, нет, но это нетрудно восстановить. Я могу написать ему письмо. Или даже позвонить, я думаю. У Чака, – переглянулся он с Имаму, – наверняка найдётся телефонный выход на Европу. Мистер Стэнли живёт в Шотландии. У меня есть его карточка с адресом.
– Он тебе как показался, надёжным? – сразу уточнила Вереву. – С ним можно иметь дело? Потому что, как ты понимаешь, права на ошибку у нас нет.
– Это вы сейчас о чём?
– О том, что если наши поиски печки для переплавки золота и типографии для печати банкнот привлекут внимание тех, кого мы не знаем, жди беды.
Имаму согласно вздохнул и тоже устремил на Кифару выжидательный взгляд усталых от недосыпа глаз.
Кифару не нашёл ничего лучше, как поведать слушателям о своём разговоре с мистером Стэнли на тему оффшора – сколько помнил и насколько сам понял.



