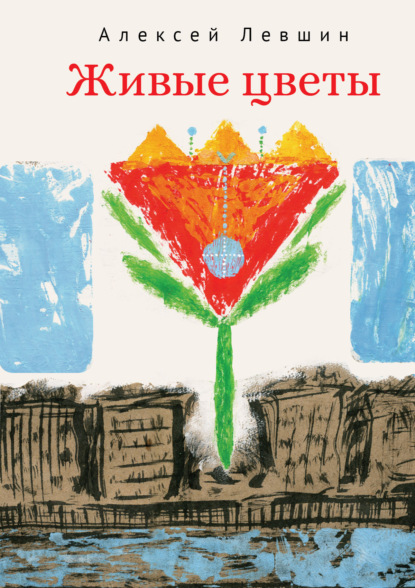
Полная версия:
Живые цветы
Шестой
И приснилось мне, что я открываю шкаф, похожий на шкафы в раздевалках в детском саду. Оттуда среди чей-то обуви, книжек и ниток на полке бубнит включенное радио. Из которого говорит диктор, которого я прекрасно понимаю, несмотря на то, что он очень похож на голос одной грубой и нарочито циничной художницы, маминой знакомой. И вот звучит такое густое и резкое, подернутое бесконечной прокуренностью меццо-сопрано, а может, контральто. С поросячьими завываниями она говорит какому-то репортеру, а получается, что будто бы мне: «С тех пор как его не стало.»
Кого его? Передача уже началась, идет, и я не понимаю, кто это: не то писатель, не то кинорежиссер.
«Все так мрачно, вся Москва стала мрачной. Вы пройдите по этим улицам, там, где я часто его встречала. Это ведь теперь такие скучные улицы, а как пах обычно город после дождя, да… Как он обычно пах, вы представить не можете! Как он любил этот запах только что обрызганных листьев, асфальта и даже машин и оград скверов. Да что говорить! Весь этот обрызганный город после дождя. А теперь ведь даже эти листья пахнут так скучно, так скучно после дождя. Мы недавно с дочкой под Москву ездили, и клевер, даже клевер, запах которого я так люблю, он теперь не так пахнет. Он ведь такой медовый, летний всегда. А теперь он пахнет так скучно, хоть вой! Потому что его в живых нет. Вы не можете понять».
Седьмой
Друзьям нельзя со мной встречаться, запретило правительство, как в прошлые времена. А друзья все единодушно, как в прошлые времена, честно и равнодушно собрались в бывшей школе. В той самой нашей школе, в классе физики, как будто их туда собрали в наказание за сорванный урок.
А, на самом деле, они празднуют какую-то дату, что-то вспоминают. И. Вот уже в коридоре шаги. По доносу неизвестного стукача все разузнали про нас. Следят за ними уже целый день, в кабинете биологии собрался штаб гэбистов, чтобы арестовать их всех разом. А друзья решили на шаги не реагировать, пока тост не будет произнесен до конца, – а до этого они не уйдут. А уходить придется через окно, как в каком-нибудь авантюрном, заезженном, дурацком и любимом фильме. И хорошо, что они вычислили между окнами находящуюся водосточную трубу. Шаги застывают возле двери, кто-то из ребят берет с кафедры такую длинную треугольную линейку в виде оружия, а из-за дверей голос: «Откройте, это я!»
И это, действительно, я. Они рады меня видеть, они таращат глаза. «Ведь ты же за границей». Но их лица как будто подергиваются такой гусиной кожей прозрачного и веселого страха. Теперь уже им и мне все ясно: нас точно арестуют.
Мы заклиниваем дверь стулом. Кто же первый будет спускаться по водосточной трубе? Это надо еще решить. Бросить жребий, а окно уже открыто. Я говорю: «Жребий бросайте, я последний». Никто не спорит. Один за другим друзья мои исчезают в окне, жребий – это были две спички. Одна длинная, одна короткая, одна целая, одна сломанная. С той стороны топот шагов, удар по двери, другой, будто удар в висок. Выстрел. Я шарахаюсь в сторону, я отхожу от окна. И вот слышу спиной, как взламывают дверь. Напирая плечами, разбегаясь и усердствуя, вот они таранят, таранят эту дверь, заклиненную стулом.
Я стою у последних парт, и мне грустно, я чувствую острую живую грусть за моих друзей, какую-то благодарную грусть. Они из-за меня собрались, рисковали собой, своей жизнью, своими женами, ведь мы уже все взрослые, и у многих семьи. И никуда я не убегаю. И вот здесь тогда возникает чувство, самое четкое за весь этот сон – чувство не той реальности. А дверь поддается напору, она треснула. Преследователи врываются, а я подхожу к окну, я к ним спиной, выглядываю в окно, на улице никого. Пусто.
Я поворачиваюсь, и вразброс среди парт стоят они же. Мои друзья. Только одетые в офицерскую форму. «Вы нарушили закон неприкосновенности государственных границ, так что будьте добры следовать за нами.»
Сельский гипнотизер
Не знаю отчего мне вспомнилось личико одной секретарши, которая любила его морщить эдак сверху донизу. Причем, линия демаркации всех морщин проходила по гребню ее маленького носика. Морщилась она от того, что, очевидно, печалилась, а печалилась она от того, что, очевидно, у них с мужем не так уж много денег на запланированные вперед на два года дела и поездки. А, может, морщилась она еще и от того, что стремительно наступил сентябрь с холодрыгой и перезвоном-трезвоном капель, как ему и положено быть. Правда, история совсем не об этом, а вообще-то о другом.
Вот ее, эту другую историю, я и расскажу. Интересна она тем, что действительно случилась. Находились мы тогда в ЛТО всем классом. То есть девчонки тоже были с нами. ЛТО – это «Лагерь Труда и Отдыха» – для тех, кто не… – не знает или не был в нем. Собирали мы там вручную картошку и турнепс на каких-то полупустых полях, и было это в тот самый год, когда рванул уже Чернобыль, о чем мы все вместе со всей нашей страной вроде знали, но знали смутно. Хотя и простаивали не раз под дождем во время работы, рискуя получить радиацию с каплями дождя вместе.
Никто из нас с тех пор от радиации не облысел, а я свой заработок в двадцать семь рублей с хвостиком потом посредством почтового перевода переслал на счет, открытый для помощи жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но все это было уже позже, а тогда мы ничего об этом трагическом событии толком не знали.
Жили мы в этом лагере как-то скучно. Правда, иногда устраивалась дискотека неподалеку от того места с бараками, где мы жили, и на нас во время дискотеки хмуро и нагло глядели местные парни. Отчего мы с Лешкой и решили вовсе не танцевать, чувствуя в воздухе запах драки. Избежал я драки и тогда, когда сидя орлом в местном туалете, над обычной корявой дыркой, сказал одному толстяку с явно уголовными замашками из другого отряда другой школы одну фразу. Сказал на его комплименты Вере Конько из нашего класса: «Да, дура твоя Верка!» Не последовало за этим ровным счетом ничего, хотя можно было опасаться чего угодно. Там же, в нашей палате, я заламывал руку своему другу Каткову, а ночью отгибал ее от его головы, потому что была у него во сне странная привычка держать ее коромыслом над подушкой и над головой. Тогда я в ответ от толстяка Мишки хотя бы матюги услышал, а тут ничего не услышал. В принципе я был не так уж и не прав: Верка и вправду была дура, а спать с такой рукой коромыслом тоже некрасиво…
И все же одно событие за время нашего пребывания в этом трудовом лагере произошло, хотя и было по большому счету символическим. К концу срока работы нашей в этом поселке решили организовать нам вечерний досуг, но не в виде дискотеки на сей раз, а как-то посерьезней.
В поселок Хрулево, тот самый, где устраивались хмурые дискотеки, недолго думая явился гипнотизер. Не очень долго думая, вызвал он из зала желающих участвовать в представлении, и с этого и начался его сеанс. Одним из этих желающих оказался я. Грустно то, что я ничего толком не помню: ни как зал выглядел, хотя весь зал был битком набит. Все происходившее на сцене клуба сейчас в памяти как-то смазано. Поэтому я расскажу так, обрывчато.
Я вышел на сцену и сел на старый скрипучий стул с ободранным коленкором. И началось. Длинноволосый в старом пиджаке с засаленными лацканами гипнотизер начал свое камлание. Было оно нехитрым. Хорошо поставленным голосом требовал он от нас то сесть, то встать. То сесть с каким-то особенно медлительным заходом. То под углом сесть, то что-то за ним повторить.
Я повторял всю эту гимнастику и думал: «Девчонкам нравится, а парни наверняка врубились, что я имитирую и что все это лажа». Дело в том, что мы с Юркой и не такое в спектаклях наших делали школьных, да и просто на перемене или в классе в виде легких хулиганств откалывали. Еще не такое мы с ним вытворяли, и все знали, что мы на это способны и что от нас чего угодно можно ожидать.
А тут ерунда какая-то – «сесть-встать». Юрки почему-то тогда в лагере не было, так что компанию составить мне на сцене он не мог. Я считал тогда, что я вообще человек непосредственный и что могу изобразить на сцене что угодно. Начиная от пьющего верблюда и заканчивая приседающим человеком.
Я хотел было знак подать нашим мальчишкам, что притворяюсь капитально и стал шире руками махать, а гипнотизеру это, вижу, нравится. Просто остальные рядом со мной на сцене, те хуже выполняли команды. Был там с нами парень из соседнего отряда, Герка, я его знал. Думаю: «Сейчас подойду, шепну что-то и начнем мы творить какой-нибудь дым коромыслом в пику гипнотизеру». Но я не успел к нему подойти. Гипнотизер то ли учуял мой порыв, то ли что-то такое другое учуял, но со сцены Герку под каким-то предлогом турнул.
А, может, ему не понравилось, как он приседал и вскакивал. Осталось нас двое, и тут стало совсем не интересно. Потому что гипнотизер сказал: «Спать». Я и заснул. По правде говоря, работали мы каждый день много и тупо, кормили нас в сельской столовой так, что мы не наедались, и вообще это все было немного похоже на армию. Так что у меня были все причины на сцене, во время этого вечернего досуга, отоспаться. И все же выполнил я свою задачу как профессиональный актер, не по-человечески заснул, а по-актерски. То есть внешне я заснул, а внутри ни капельки не заснул. Аплодисменты гипнотизеру я воспринимал на свой счет. Я считал, что только ко мне они и относятся.
Вот, собственно, и вся история. Никто, даже Лешка, потом мне не поверили, что я этому гаду-гипнотизеру подыгрывал. Понимал меня только Герка, но его же турнули, и он даже ничего доказать своим не пытался. А уж нашим тем более! А то, с каким утешительным видом меня Лешка успокаивал, наталкивало на мысли, что он считает меня лжецом. А что объяснять? Помните песню Башлачева: там, в конце песни, тракторист Грибоедов Степан приходит домой, залезает в петлю и с собой кончает. Такой у него результат произошел после встречи с гипнотизером.
Другие времена, другие нравы! Хотя жили мы как раз в ту самую эпоху перемен, о которых пел Цой. И как раз в те самые времена, когда Башлачев эту самую песню написал. Выходит, что мы сами себя гипнотизировали насчет разных перемен. Вот и загипнотизировали, выходит, надолго.
Вторая часть. Поворот на 180 градусов. Где мы теперь?

Француженки
1.Я хочу рассказать простейшую историю из времен советских, которая приобретает, как мне видится, какой-то даже человечески-исторический расклад, если брать ее в ракурсе диалога культур: а действующие лица тут культура русская и культура европейская.
Короче, случилось вот что. Я отдыхал в одном заповедном месте по имени Абакумлево, куда я попал благодаря друзьям нашей семьи и где много времени проводил каждое лето три года подряд. Так случилось, что я жил в гостях у друга моего детства Глеба, с которым мы и раков ночью таскали, и бегали-купались днем и ночью. В этой деревне был их дом и еще два-три заселенных дома, где жили дачники из Москвы, а семей было мало на всю деревню, и все семьи были московские. Нас, подростков, было человека три. А мне было лет эдак четырнадцать.
Это был мой второй или третий приезд в эту деревню. Так случилось, что в один прекрасный день почему-то все мои друзья-хозяева уехали, оставили меня в этом доме одного, и дом оставили на меня. Видно, мне можно было доверять, хотя меня дядя Валера, отец Глеба, всегда считал явным паинькой и зазнайкой ну или «мальчиком-всезнайкой». Только сейчас я понимаю, что все герои мультфильмов, которых звали знайками и незнайками, были героями нашей реальности, где шла гонка за знанием, и быть всезнайкой было не так уж плохо… Но я сейчас не об этом.
В общем, мне нужно было заниматься бытом. Заключалось это вот в чем: уметь запирать дом на амбарный замок, если вдруг я куда-то уйду, ну, например, гулять в лес, хотя бы для этого и надо было переплыть речку Нерль, чего я делать, в общем, не собирался; а еще надо было прокормить самого себя. В принципе мне оставили борща на два дня, его сварила тетя Света, мама Глеба.
По-моему, всего на два дня меня одного и оставили. А, может, и на пять, не помню. Помню, что спать мне одному было боязно, потому что всякие слухи ходили по деревне, что за несколько километров от нее другая деревня, куда селятся зеки беглые. А, может быть, не беглые, а просто отмотавшие срок, поскольку вообще-то это были места, где проходил бывший Владимирский тракт, по которому испокон веку вели пешком арестантов. Но мы сейчас не об этом, а о другом.
Оставили меня, значит, на три-четыре дня. По ночам темно, слушаешь каждый шорох, каких-то насекомых, и боишься, что услышишь за окном тяжелое человеческое дыхание, а разве оно тяжелое, а кто знает… И вот тут и случилась та самая история, о которой я и хочу рассказать.
2.Каким-то образом, через какие-то неизвестные средства связи (телефонов тогда не было мобильных), и на станцию я тогда никуда не ездил звонить кому-либо (распорядок дня меня держал: борщ, прогулка, амбарный замок), да и телефон не был проведен в этот дом деревенский, а и мало у кого был проведен – словом, каким-то образом я узнал, что две француженки из Нормандии, из славного города Гавра, должны приехать в город Владимир, а деревня, где я был, находилась во Владимирской области, как и понятно из вышесказанного.
Кстати, по поводу города Гавра. Это такой городок на побережье Ламанша, который пострадал во время второй мировой войны от авиационного налета английских союзных с нами войск. Он был полностью отстроен после войны, и от этого он самый уродливый город во Франции, какой я только знаю. Однако старинную историю Нормандии (от викингов-захватчиков и Ричарда Львиное Сердце до эскадрильи «Нормандия-Неман», от бежево-белых стрел местечка Этрета, где Моне и другие рисовали песчаные меловые скалы в виде больших ласточек и до кальвадоса, сидра и актера Бурвиля), равно как и крепость местного населения, которую я позже увидал своими глазами, в чем они на нас слегка похожи – это все авианалет не уничтожил…
А то, что нормандцы не робкого десятка – это и должны были доказать две школьницы из Гавра Лора и Анна, когда-то знакомые мне по единственной встрече в нашей французской школе (с углубленным изучением), где они появились в составе делегации французских гостей.
Я как один из лучших учеников по французскому (мальчик-всезнайка), принимал делегации бок о бок с еще двумя отличницами, гости проходили мимо и о чем-то говорили по-французски, подарили нам жвачку и что-то сказали. Я что-то ответил, хотя потом долго соображал, а что же они спросили. Фактор волнения, я полагаю. И от них благоухало духами.
А потом мне про них рассказывал мой друг Андрей Ч. из параллельного класса «А», с которым мы были такие антиподы почти во всем, но вместе играли в школе на фортепиано в четыре руки, а иногда он играл джаз, и еще мы параллельно писали работы для олимпиад, были лучшими учениками по французскому в обоих классах и друг без друга долго не могли. Он успел летом к ним съездить, поскольку попал в делегацию с нашей стороны, то есть был в нее включен. Это были времена проработок, выборов, голосований, характеристик и подходящего и неподходящего социального происхождения. Я включен в делегацию не был, поскольку принадлежал, по понятиям советской ханжеской законности, к неправильной семье: мать моя с отцом к тому времени развелась – в общем, неполная семья. Правда, если честно, к тому времени и мать Андрея давно уже с его отцом развелась, но вот его почему-то пустили во Францию, а меня нет. И жил там Андрей дома у Анны и Лоры и их родителей. Такие дела.
3.Два слова буквально о наших международных отношениях с французами, как я их понимаю.
Притча вот в чем заключается: французы после того, как в 1812 году к нам пришли с войной, о нас в смысле войны крупно забыли. Интервенцию восемнадцатого года я не беру. Она коснулась только определенных областей России. Но зато в советские времена мы и французы иногда дружили путем каких-то общих экономических интересов и, так сказать, по линии сотрудничества коммунистических партий обеих стран, хотя у нас она была бездушной государственной машиной, а у них такой нелепой и упрямой организацией, которая очень была заинтересована в дружбе с Советской Россией.
Тем не менее французы о нас, как я понимаю, ничего не понимали окончательно еще с тех времен, как Петр Первый странно повел себя на приеме у короля Людовика XIII, подняв на руки и поцеловав наследника, будущего «короля-солнце»… И не поймут нас наши дальние соседи-европейцы до конца никогда. Чтобы и мы себя понимали! Чтобы хотя бы не до конца, а хоть наполовину. С такой нашей историей, которую мы либо выносим, либо себе на голову сочиняем. Вот французов мы, в основном, понимаем и англосаксов тоже. Да и немцев вполне. Знаем и понимаем, зачем им была нужна Столетняя и Семилетняя война, Тридцатилетняя тож, Парижская Коммуна и Война Алой и Белой Роз. А вот себя мы нам понять… так нет же… не сейчас, видать… Ну, нету такого органа в голове пока для понимания нас. У нас самих. Эволюция подкачала.
И, собственно говоря, я тут вспоминаю одну маленькую историю. Приехала на Псковщину одна девушка со своим бойфрендом, идет домашнее пиршество, в углу стола сидит ее родной дед. Долго дед присматривался чего-то, присматривался к французу, пока не сказал этому ее бойфренду: «Давненько вас тут у нас не было!». Девушка ему дедовы слова перевела. Он деду говорит: «Почему это? Я у вас вообще никогда не бывал!» «Да я не про Вас говорю, – говорит ему ее родной дед. – Я говорю вообще про французов. Со времен Наполеона».
Ну, короче, со времен Наполеона русские и французы хоть по-разному и общались и иногда довольно интересно и часто, вплоть до массовой эмиграции русских белогвардейцев, офицеров царской армии, богатых промышленников, политических деятелей и интеллигенции в двадцатом веке, а все же отличаются представители этих народов как в области кухни, так и в области душевных забот.
4.Словом, я двинулся во Владимир. Для меня, как для бешеной козы, семь верст не крюк, так что дойти пешком до Суздаля через луга и поля было совершенно нормальное дело. Сейчас я попытаюсь определить по памяти, было это восемь или семь километров, а то, может, и все девять, но вряд ли двенадцать… Проходишь через несколько сел, полей, потом по дороге, по обочине, и ты уже в Суздале. Времени не было пошнырять по Гостиному двору, посмотреть там что-нибудь в книжном магазине, где я купил в свое время Гаршина и тут же обалдел от его рассказов. Дым, вонь, смрад битвы и не понятно, зачем должен в ней помирать человек. И об этом обливается тоской и кровью сердце писателя, и твое сердце так же обливаться начинает тоской, кровью и желанием помочь этим давно уже умершим, погибшим людям – помочь им выжить, хотя они уже убиты, и Гаршин уже покончил с собой.
Или наоборот я все ж таки заскочил в магазин, купил Гаршина, сел в автобус, идущий во Владимир, и начал читать его рассказ «Воспоминания рядового». Ну, может, и так. Потом я эти рассказы еще читал и читал. Они были такие мрачные и такие страшные, что я как-то встряхнулся изнутри и слегка оторопел и отодвинулся от реальности спокойной пыльной провинции. Сейчас я многим своим друзьям-собратьям по перу посоветовал бы перечитать Гаршина, если у них нехватка чего-нибудь страшненького, такого как бы хоррора перед сном. Гаршин – это наш русский первый хоррор, хотя он значительно умнее и лучше, чем американский. Гаршинские рассказы – это не просто хоррор для потряхиванья нервов, а это хоррор правды, основанный на реальных событиях. Без озорной улыбки Лескова, без надежды Достоевского, а просто правда о России как она есть. Это сразу мне после Куприна и пушкинских «Цыган», тогда читаемых, было как удар по сознанию…
Короче, я то ли с Гаршиным, то ли без Гаршина еду во Владимир, высаживает меня автобус на какой-то ужасной советской площади, потому что советское наше строительство социалистическое отметилось у нас в стране совершенно вавилонскими тоталитарными строениями с вечной скукой визуальной на первый и последний взгляд, и эти сооружения уже сто лет почти портят вид любого города. Совсем недавно я был во Владимире и даже забыл о существовании этой площади, где я тогда в подростковом возрасте высадился из автобуса. Возможно, что с тех пор этой площади не существует, как часто бывает с местами, где был только в детстве.
Все-таки центр города Владимира сохранил свое исторически неприкосновенное русское лицо времен Владимиро-Суздальской Руси, с то и дело попадающимися присутственными местами девятнадцатого века желто-цыплячьего цвета, описанными у Салтыкова-Щедрина и вообще у всех русских писателей… Короче, высадился, площадь где-то на отшибе.
5.А вообще, что касается того, что я приехал тогда во Владимир, в этом ничего интересного нет. Нашел я своих француженок, раскланялся, говорил я по-французски уже тогда неплохо. Они веснушчатые, мне это понравилось, я подумал, что вроде что-то свое, раз веснушки. И дальше мы садимся на автобус и приезжаем в Суздаль. После этого мы чуть-чуть погуляли по Суздалю, но потом я говорю, поскольку у меня была своя цель, а им дали какое-то свободное время невразумительное, часов где-то пять, я говорю: «Пойдемте дальше».
Я вроде немножко разбирался, сколько у нас времени на то и на другое, хотя по большому счету, я не разбирался. Во-первых, потому что я вообще во времени не разбираюсь, когда я в благодушном настроении. А, во-вторых, потому что подростки вообще во времени не разбираются, не надо уж от них этого требовать. Кроме каких-нибудь диких зануд или тех, кто в будущем будет служить в налоговом ведомстве или чиновниками или менеджерами высшего звена.
Надо сказать, что вообще-то нелюбовь ко времени – это ведь такая русская черта. И как можно рассчитывать время, когда такие кругом зеленые поля и дорога… Когда видишь все эти поля, когда видишь все эти просторы, они для тебя сразу какие-то родные, а для французов они, наверное, все-таки бескрайние. Я думаю, что выражение «бескрайний простор» принадлежит, скорее вего, какому-нибудь иностранцу. Для русского человека и так понятно, что все оно без края вот это вот пространство.
6.И, собственно говоря, когда мы пошли от Суздаля пешком, я не считал, сколько нам идти. Мы шли по обочине дороги, а потом она несколько раз мне снилась эта дорога. Мне даже казалось, что она описана где-то у Лермонтова в прозе и в одном стихотворении, у Пушкина тоже и, может быть, даже у Бунина. Идем мы по обочине. Мои француженки несколько раз нервно оглянулись, увидели, что Суздаль теряется вдали. Да, у нас там на экскурсию не хватило времени, мы даже, по-моему, в Кремль Суздальский не зашли. Мы идем. Я понимаю, что впереди девять километров, и опять же бешеной козе семь верст не крюк.
Доходим мы до села Кидекша, там церковь Бориса и Глеба. В память об убиении наших первых русских святых, канонизацию которых не принял Вселенский патриархат Константинополя: к чему причислять к лику святых тех, кто подвига мученичества не совершал? Незлобивые, покорные, кроткие наши русские князья. А у нас так, благодаря их непротивлению и несправедливому убиению, пробудилась окончательно наша русская вера. И по сей час она ведь сильнее слышна в мыслях о невинно убиенных.
И Византия тут ничего не понимала и не могла понять.
Постояли перед этим храмом, пронизанным русской историей. Времени не было, тем более что церковь тогда была закрыта, но я показал пальцем. Сказал: «Вот здесь неподалеку были убиты Борис и Глеб». Мой французский был тогда недостаточно разносторонне развит, объяснить, кто они такие, я не объяснил. И что основал храм сам Андрей Боголюбский, суздальский князь, тоже не объяснил. Думаю, у француженок моих уже зародилась странная мысль: идем далеко…
Отсюда с дороги уже надо было уходить в поля.
И кажется, по пути я все-таки сказал, что хочу отвести их в гости к моим друзьям, у которых живу. Вот мои фрацуженки-близняшки (забыл сказать, они ведь одинаково веснушчаты и улыбчивы, потому что близняшки) думают: дорога длинная, куда мы дальше идем не известно, поля кругом, убиты какие-то Борис и Глеб. Дальше мы, значит, легко еще дошли по полям до следующего села. Ну, думаю, здесь я не буду им рассказывать, что в одном из дворов справа живет один дебил. Потому что мы несколько раз с мальчишками его пугали, когда на велосипедах ехали, он с палкой выбегал, на нас замахивался, мы гоготали.
7.Наверняка, кстати, мы французов тоже превратно понимали тогда. Это сейчас мы поездили по Европам. Мы думали раньше, что у них все упорядоченно и что жизнь значительно лучше и гуманнее, и товары первой необходимости и второй и третьей есть, а дебилы, уже, наверное, изведены на корню. Ну, конечно, потом я часто этого дебила вспоминал. Было мне грустно: вот ведь беззащитного человека мы донимали. А потом и я бывал в положении такого дебила, бывал. А с вами такого не было?

