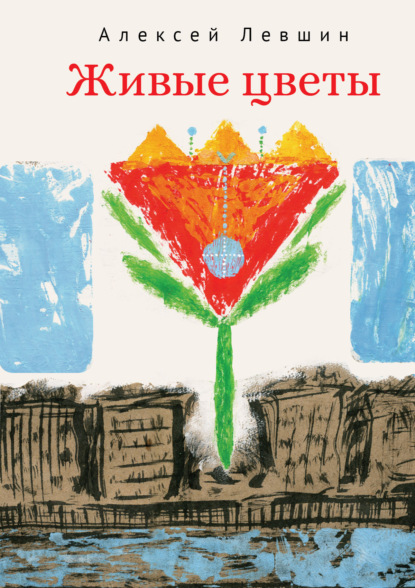
Полная версия:
Живые цветы
Так что прощай, последняя эфемерность, доставшаяся двадцатому веку от девятнадцатого! Все эти кисейные занавески и прозрачные истории, в которые верил немного даже Андерсен, видевший при этом нестойкость человеческого бытия и того, что не от Бога. (Не сказать, что в девятнадцатом веке не было не кисейных авторов, а как же Бодлер, Гоголь, Диккенс, Достоевский? И все же кисейных было больше…)
Вы хотите сказать, что я читал в подростковом возрасте только приключенческие романы и вот такие манерные сказки? Совсем нет. Это были те же самые времена, когда я читал «Карлсона», «Мумми-троллей», «Алису в стране чудес», «Алису в Зазеркалье», «Путешествие Нильса с дикими гусями», всю эту хронику Волкова под названием «Волшебник Изумрудного города», книги Джанни Родари про Джельсомино в стране лжецов и Голубую стрелу, «Черную курицу, или Подземных жителей» и первую хронику Нарнии «Лев, колдунья и платяной шкаф», потому что остальные хроники в то время еще не перевели.
Я закончил параллельно с Конан-Дойлем на том же пляже под Одессой «Маленького принца», а на даче под Суздалем залпом прочел «Ромео и Джульетту» и «Отелло», и первая трагедия мне понравилась, а вторая нет.
И, честно вам скажу, я до сих пор мечтаю встретить таких же персонажей, как Ромео и Джульета. Но выходит, что я то встречаю Ромео без Джульетты, то Джульетту без Ромео, а их обоих вместе никогда… И еще именно тогда я начал читать «Олесю» Куприна вслед за «Цыганами» Пушкина, и «Олесю» я не дочитал, а «Цыган», разумеется, да.
Боюсь, что сейчас мне сложно разобраться в моем тогдашнем списке книг, такой список книг выдавался на каникулы в школах, и чаще всего он пестрил совершенно обязательной неинтересной советской литературой. Могу только сказать что Джульетта, Земфира и Олеся были женскими персонажами, витавшими надо мной долгое время и уже начинавшими заслонять мне живых девочек, а вот та воображаемая девочка мне больше не снилась…
И тогда же я прочитал, лежа на бабушкином диване, «Сорочинскую ярмарку» и начало «Евгения Онегина». В зимнем лагере мне удалось прочитать «Беовульфа», остальные европейские эпические поэмы я не осилил. До сих пор почему-то больше всего люблю эту историю про одинокого воина, который убил чудовище Гренделя, послужил нелюбимому королю-захватчику и тем самым призвал на его замок еще большие беды…
Из школьной программы «Сорочинская ярмарка», «Нос», начало «Евгения Онегина» очень нравились мне. Честно говоря, это сейчас мы научены горьким или каким-либо другим опытом, что эти истории что-то значат в русской жизни, что они могут восприниматься либо как пророчества и как диагноз, либо же как волшебные сны о том, как мы могли бы жить.
Тогда же для меня это были просто удивительные произведения, сны наяву, и я даже не задумывался, что они написаны на моем родном языке. Помню также, что я читал «Мцыри», особенно я болел Лермонтовым во время своих смен в пионерлагере, о котором я уже говорил. С друзьями мы читали вслух в палате Грина, Эдгара По и Зощенко, а болел я Лермонтовым, сидя на качели, подвешенной на цепи, и раскачиваясь на ней и читая, читая, читая… Сложно понять, где же те восемнадцать авторов второго ряда, которых я тут себе недавно насчитал в своих размышлениях, потому что я никогда не нумеровал их. И, кстати, ничего не сказал ни о Сэлинджере, ни о Фитцжеральде, чьи книги совпадали в чем-то с моими подростковыми мечтами, а, вернее, предвосхищали подростковые мечты об ожидающем меня мире.
Ничего я не сказал о Нервале, о Жаке Казоте, написавшем историю про влюбленного дьявола и повлиявшем на Гофмана. Об Антонене Арто, которым я зачитывался уже во Франции, когда мой подростковый период календарным образом был уже закончен, а внутренним и душевным образом еще продолжался…
Но все же. Я прошу вас! Читайте этих второстепенных авторов, этих авторов второго ряда. К примеру, тех самых, которых я перечислил. Либо забытых мной, либо очень странных и все же моих любимых авторов. Их ровно восемнадцать, а у вас их столько же?
Да, да, забыл сказать. «Четыреста пятьдесят один градус по Фаренгейту» я читал, пряча книгу в парте, во время занятий по учебно-производственной практике, где нам объясняли устройство двигателя внутреннего сгорания и где мы учились водить грузовик ГАЗ-5204. И в моем воображении в эту минуту, в минуту занудного объяснения нам устройства двигателя внутреннего сгорания, горело совсем другое. Горели лучшие книги на Земле. Спасибо тебе, Брэдбери!
Разговор в ресторане
1.Мне все время приходило в голову, мне все время что-то приходило в голову. Например, то я вспоминал себя за два года до того в Питере и как мне грозила такая весьма купеческая свадьба, и как было во всем этом что-то такое цветастое, румяное, как у бабы-куклы, которую сажают на чайник.
И вот все это цветасто-румяное было связано не столько с потенциальной невестой, сколько с напором по обмену жилплощади со стороны возможной тещи, хотя, впрочем, и потенциальная избранница была в меру румяной, белокурой и лукавой, с детскими чертами лица…
А потом я думал о чем-то другом. Потом я вспоминал свою одинокую юность в Париже. У студентов в принципе всегда одинокая юность, это нормально. Правда, бросало меня в те годы то в одну сторону, то в другую, а то, казалось, очертания глаз сводят с ума, а то вот… да… такой рисуется овал лица смуглый, и вроде как у нее в крови итальянцы, и что-то она потом мне рассказывала, что не всегда любит мужчин, и ничего-то у нас не получилось. На ширину бедер я, пожалуй, тогда мало заглядывался. И сравнивал женские лица только с лицами актрис из великого кино: вот она на фоне Угрюм-реки, а вот где-то в темном лабиринте комнат в Риме. А вот невысокая женщина с напряженно-грустящим лицом на фоне озера, снятого на грани сумерек. А потом я долго ходил по Парижу и придумывал для себя такие истории для кино, которые взять бы и снять. Истории, в которых не было ничего, кроме образов и совершенно искренней и все же вычурно-напридуманной атмосферы.
Знаете, так бывает: молодые люди себе что-то вычисляют. То ли это похоже на жизненные планы, то ли само это планирование и нагораживание деталей и идей делают из них молодых, уверенных в себе писателей. Словом, они подробно выстраивают такие истории, которые к жизни отношения не имеют.
Ну, разве что вот этот абрис смуглого лица остался в памяти. А вот что она потом говорила, когда мы сидели на диване и пытались разучить для показа в университете скучный фрагмент из нескучной пьесы Мольера – все это забылось. Или это был не Мольер? Что она потом говорила? Я не могу… ты должен понять… другая… другой… Это я совсем уж не упомню.
А то, что придумываешь, оно, конечно, не всегда такое скудное, не всегда такое унылое и не всегда почему-то колющее сердце. Потому что иногда сердце тебе колет встреча и несколько фраз, и поворот женского лица, а иногда, кажется, что живешь не так, что живешь не в том городе, что живешь вдали от родных краев, и не понятно как выстраиваешь жизнь, и не понятно какую женщину любишь.
А вот опять промелькнуло какое-то видение, сверкнул живой объемный рисунок человеческой встречи, и ты даже не знаешь, что об этом было написано, рассказано сто раз и что все это было обсуждаемо годами, веками разными поколениями мужчин, имеющих неизлечимую страсть описывать свою жизнь. А такую страсть имели ранее в России и во Франции многие поколения мужчин и не обязательно было для этого быть писателем…
Ну вот, например, можно придумать такую историю, а потом снять ее в кино: посреди перекрестка стоит человек с бокалом красного вина и чокается с воздухом или же прямо с улицей. Марку вина подберем позже. «Сант-Эмильон». Ну, пока так. Допустим, это улица Монж или, если хотите, улица Муффтар, известная пансионом, где жил бальзаковский папаша Горио, и пахнущая лавками съестного и греческими ресторанчиками, и суевериями.
Я записывал эти картинки, как рассказы, которые могут потом пригодиться для чего-то, а потом я познакомился в метро с Лорой, у которой такое узкое и почему-то поющее лицо. Она говорила по-русски без акцента, муж ее оказался разгильдяем и лоботрясом, сбежавшим со службы из Иностранного Легиона. Я в нее влюбился. Приехала через день Алена С., румяная скрипачка с удивительными глазами – да, такие миндалевидные глаза мне в юности очень нравились. Мне казалось, что к тому времени я уже выбросил ее из головы, и вот опять увидел и опять влюбился в нее. И вот в этот же день или ровно назавтра к Лоре приехала подруга из России, звали ее Юля. Как-то так случилось, что незадолго до ее отъезда ее молодой человек разбился по пути из Москвы в Петербург на каком-то чуть ли не первом скоростном поезде, запущенном тогда, очевидно, ради эксперимента.
Поезд сошел с рельс, пострадало два вагона, он был в одном из них. Юля мне очень понравилась: мягкий голос, очень нежные глаза, какие-то даже немного беличьи, сама вся внимательность и какая-то вся скорая испуганность, которая бывает у белок.
А у Алены был румянец во всю щеку, и это волновало и в то же время убаюкивало.
У Юли был тоже густой и смуглый румянец на щеках, и вообще она такая ладная, невысокая, со склонностью к полноте. Я стал ее утешать. Как-то так мы оказались во второй комнате Лориной квартиры, а за стеной Лора была чем-то занята, хотя обычно Лора принимала гостей в другой комнате.
Я встал на колени, я что-то шептал ей, я понимал, что влюблен в нее по уши. Кстати, описывать подобные сюжеты меня тогда не интересовало, я не собирался их записывать в записные книжки, придумывать из них в будущем рассказы с диалогами и с какой-то интригующей тайной внутри. Нет, нет, что вы.
Человек чокается бокалом красного вина с воздухом на улице Монж – вот это было мне интересно! А все эти жизненные истории как будто проскакивали мимо меня, и кто же знал, что они задержатся во мне. Так вот, я стоял на коленях, признавался ей в любви, говорил, что все пройдет, пройдет и затянется рана, и я, конечно, понимал, что у нее горе и как-то одновременно хотел ее утешить в этом горе и дать понять, что я вот он я, здесь, что, быть может, я даже могу пригодиться, что, быть может, в такую минуту она может сейчас опереться на меня и нуждаться в моей поддержке.
Она, в основном, мало говорила, старалась больше как-то прятать в себя свое горе, прямо вовнутрь своей души, чтобы пережить его. Влюбленность моя показалась ей странной и наверняка неуместной. С тех пор мы не встречались, и видел я Юлю всего лишь еще один раз. Мне очень сложно себе представить, как вообще она относилась к подобным влюбленностям самоуверенных мальчиков из хорошей семьи и понять, что это значило для нее в тот день, когда она приехала в Париж и осознала, что ее жениха больше нет в живых. А мне было сладко и необходимо шептать ей все это, стоя на коленях, – и Фрейда я тогда не читал и угрызений не ощущал…
2.И вот именно тогда у нас в Сорбонне, в нашем очередном сорбоннском университете «Париж-3», выдали мне три талона в студенческой администрации. Это было три бесплатных талона на поход в ресторан.
Тогда я, недолго думая, пригласил в небольшой ресторан возле вокзала Монпарнас этих троих девушек: Алену С., Юлю и Лору. У Лоры было бледное лицо, у девушек был румянец.
Честно говоря, я плохо помню, считал ли я тогда, что женщины умнее мужчин. В основном, в светских беседах я по сей день настаиваю, что у женщин есть свой ум, идущий своими путями… Не могу я вспомнить, посчитал ли я тогда свой азарт особенно безумным. Думаю, что я даже об этом не задумывался. Мне было интересно – вот у меня талончики, я приглашаю в ресторан трех девушек сразу. Одна вещь, правда приходит на ум. Но об этом я скажу позже.
– Итак, ты пригласил нас, – с какими-то грудными нотками начала свою партию Лора, точно сразу повзрослев до возраста важной дамы, – чтобы всем нам одновременно признаться в любви. Мы готовы.
– Причем, все трое, – сверкнув обворожительно сияющими глазами, отчеканила нагловатая Алена.
Что-то было хищное в ее облике, в произнесении этой фразы и в самом факте поедания устриц.
– Подождите, – сказал я, мне было неудобно сказать: «Что вы все выпендриваетесь? Я за свой счет пригласил вас в ресторан, у меня вот эти талончики.» нет, неудобно – А что, мы должны это сейчас обсуждать?
– Да! – оперным дуэтом выдохнули Алена и Лора, и блеск их глаз был похож на блеск заточенного ножа или же стрелы, или же сабли. Юля тоже энергично закивала головой, тем самым увеличивая градус энергетического воздействия на меня.
Ситуация была соврешенно мифологичной: три женщины, и я вроде как Парис. Я думал, что должен выбрать из этих трех современных богинь самую красивую. Но кто из них Афродита, кто Гера, кто Афина? А они уже смотрят на меня во все глаза как оскорбленные Медузы Горгоны и хотят меня в чем-то упрекнуть. Боже мой, это я сейчас вытащил наружу мифологические образы, а тогда был ком в горле!
А тогда мне надо было понять, как выпутываться из ситуации.
И вот тут я скажу то, что чуть выше обещал сказать. Скажу это, испортив весь рассказ и весь воспоследовавший блистательный диалог, который мне неохота полностью воспроизводить… Три девушки, объединившись вместе еще задолго до похода в ресторан, были абсолютно правы в своей одержимости гневом и в своем желании поставить меня на место. Ведь одна была замужем и не важно, что муж был при ней альфонс и конченый разгильдяй, в конце концов сломавший ей жизнь. А вторая была надолго помолвлена (так для красоты называли в те времена хорошо подобранные пары), и ничего, что разочаровалась в женихе довольно быстро, и, ожидая его приезда из Питера, гуляла с богатым любовником где-то во французских Альпах (о чем я знал). А вот третья. О третьей говорить нечего: у нее только что погиб ее молодой человек, и я говорил об этом.
А привела в действие всю эту психологическую, я бы даже сказал «грандиозно-психодромную машину негодования» именно Лора. Она и возглавила диалог. В принципе наше общение мало чем отличалось от диспутов по телевидению и на многолюдных сорбоннских семинарах. Тут мы предавались французской традиции прений. Ну а Алене, девочке из уютной еврейской интеллигентной семьи, просто хотелось потрепаться. Но как же чудно все они сыграли каждая свою роль! Не фурии, не Эринии, не Горгоны, а общественные обвинительницы – вот кто они были!
Однако тут было две проблемы, из-за которых свербило в глазах, а, вернее, у меня в груди. Первая проблема такая – ведь каждая из них до того, как нападать на меня в ресторане, приняла от меня мои признания. А вторая проблема была совсем другая: отчего в этой роли умных обвинительниц они становились как-то хуже и некрасивее? Отчего и вырос не только счет за ресторан, ибо в талончики все не уложилось, но и мое отвращение к ним.
Так косить глаза, так кривить губами! А эти интонации, взятые из старых фильмов, утащенные у старых актрис – ведь это же все неправда, дешевка. Юля, правда, молчала.
Они шумели и картинно разъярялись, а я наивно думал: «Мое чувство к ним было таким неясным, но таким живым. Значит, из-за того, что Юля жила у Лоры, она в тот же вечер моего дурацкого признания обсудила с ней и мое признание, и мое поведение, и они резво осмеяли все это тогда, и вот сейчас она продолжает почти безмолвно и уверенно во всем участвовать.» Разве я понимал, что ей вообще не до этого?
– Просто ты нам объясни, что такое любовь? – спросила Алена.
– Любовь – это не чувство, а состояние, – попытался ответить я.
– Как не чувство? Чувство, – сказала Алена.
– Подожди, – внятно и как-то властно сказала Лора. – Ты хочешь сказать, что ты к нам троим испытываешь состояния?
Как Лора прекрасно говорила по-русски!
– Я не это хочу сказать, – мне было неудобно, неуютно, мне казалось, что я опять заново признаюсь им в любви, но не каждой в отдельности, а всем троим, и так это было странно.
– А что тогда? – спросила вдруг Юля, вступив в разговор.
– Ну что? – промямлил я.
– А то, – подытожила Лора, – что ты мог бы не признаваться нам троим в любви, потому что это не любовь.
Я кивнул головой, и дальше диспут о любви потерял для меня всяческий интерес.
3.Это была моя смена. Пришел какой-то студент, надо было пустить в ход его волшебные талончики. А так вообще я работаю еще в одном ресторане, а не только в этой двухэтажной живопырке у Монпарнасского вокзала. Студент пришел в компании трех разнокалиберных девушек: крупной сероглазой и румяной первой, сухопарой, зеленоглазой и спортивной второй и приземистой третьей, с таким смуглым румянцем и глубоко успокаивающими карими глазами. Они все за столом говорили по-русски.
Было еще довольно светло, это был вечер ранней осени. Он гордо пошевелил в кармане чем-то, я думал, это чековая книжка, а он показал мне свои студенческие талончики и спросил, можно ли ими расплатиться. За всех за них. Явно он хотел на меня произвести впечатление: один с тремя девушками – ты зацени!
В нашем ресторанчике на второй этаж идет стеклянная лестница, и стены тоже стеклянные. Сидят все как в витрине или как омары в аквариуме в более дорогих ресторанах… только омары не сидят…
Они заказали поначалу устриц, девушкам так нравился красный уксус с мелко порезанным луком и соленое масло в коробочках, и я сразу понял, что одних талончиков ему не хватит… все только начиналось.
Со стороны их общение выглядело как матч по бейсболу, только девицы все время запускали ему мячи на базы, а он еле отбивал. Не понятно было, к кому он там прикипел, неужели ко всем троим?
К этой низкорослой с карими глазами и я бы прикипел. А сухопарые не в моем вкусе. А третья, сероглазая, слишком крупная.
Судя по интонации, сероглазая и сухопарая его отчитывали за что-то. Мне показалось, что третья смуглая и кареглазая не так на него сердилась, как те две, а просто участвовала в разговоре за компанию. Только она была какая-то грустная, как-то мягко смотрела в сторону и как будто была не совсем здесь, так что ли.
Чего он там оправдывается перед этими двумя? Заплати за съеденное, попрощайся с этими двумя фуриями, а эту смуглую и задумчивую возьми за руку и уйди из ресторана. Мужик, это единственный выход!
Иди с ней по бульвару Монпарнас, возьми ее за руку, обними, прижми к себе, начни целовать эти щеки, губы, скажи все, что надо говорить в таких случаях.
Так нет же, он не решился. Вел эту беседу с этими двумя и отбивал их гневные мячи. И сильно переплатил сумму сверх талончиков. Их только на устрицы и хватило!
Я часто так мечтаю, ставя себя на место моих клиентов. Сколько судеб могло бы так решиться у меня на глазах, и почти никогда ничего так не решается! Возможно, это потому, что человечество вообще живет хило, и ничего ему давно не мечтается. Так что оно платит по счету и уходит до дому с понурой головой. А я здесь при чем?
Сны из 90-х
Первый
Где-нибудь, в таком уездно-казарменном помещении, с накрашенным до блеска и тем не менее шершавым полом, танцевала эта выдуманная мной пара. Неужели этот извечный, не то большевиками, не то еще помещиками с кадетскими замашками учрежденный клуб, где по всем углам сыплют лузгой семечек, так и не выйдет у меня из головы? Так и не покинет меня этот собирательный образ прибранного к празднику клуба, с составленными к стенке стульями в отставке. Так и не покинет моего исторически-отягощенного воображения образ помещения для общественного времяпрепровождения, как не покидает нас целый осьминожий набор разросшихся в голове коммунальных квартир…
Сон, в котором я вижу этот пустой клуб, а такие клубы и полы видел я во многих деревнях, пришел ко мне из детства. Был ли он увиден вскользь или это гибрид деревенского клуба и подробно-пыльного, пахучего, сургучового отделения почты в поселке Толмачево – как знать? Узенькая такая была почта с крыльцом, небольшая такая почта в этом небольшом полугородке в часе езды от Луги и почти в двух часах езды от Питера. Почтовое отделение в одну комнату с круглой печью и просевшим полом, куда приходили люди получать письма и бандероли и отсылать письма и телеграммы. А дальше там большой хозяйственный магазин был и местная поликлиника тоже…
Вот там-то, сдается мне, в этом почтовом отделении, и танцевала эта выдуманная мной пара, на шершавом и пыльном полу.
Второй
Тетушка Луиза рассказывала нам свою точную и иронично – вежливую историю о поимке мухи. Сначала она обратила внимание на то, что муха мучила ее полночи, а в два часа ночи вздумала пожужжать ей в самое ухо.
И дальше она рассказывала, как же она была уверена, взяв мухобойку, что муха прячется от нее. Специально это делая, нарочно затихарившись от нее. И вот после того, как противник бесшумно скрылся на кухню, она должна была его потом выискивать почти все утро, что и придало ее повседневным заботам оттенок патетичности и бесстрашия. И вот, наконец-то муха, имя которой мы так никогда и не узнаем, та самая муха, придавшая завтраку тетушки Луизы патетический финал, погрязла в золотой гуще меда, оставшейся на дне Луизиной чашки. Мед был настоящий, что и доказывала муха, лучший ревизор свежего продукта, и Луиза, желая доказать, как невоспитанно измываться над слухом пожилых дам, налила в чашку поверх меда воды.
А муха все барахталась, видимо, извинялась за непристойное поведение. А тетушка Луиза ведь сердобольна, до сих пор она помогает старым, больным, увечным, дает деньги клошарам на улице, и вот тогда она открыла окно и указала мухе пальцем в воздух. И произнесла глубоко прочувствованное обращение к пленному: «Ты так боролась, я не могу тебя убить», – выплеснув далее и воду, и муху во двор через форточку. «Постарайся выпутаться, дорогая!» – напутствовала муху Луиза, закрыв окно и задернув занавеску.
Третий
Мулла в шляпе уговаривал генерала Шаманова не бомбить деревню c воздуха. Он сказал ему тихо в лицо: «Вы могли бы быть моим сыном». «Да, это правда», – признался генерал. Вооруженная колонна числом в тысячу человек, растянувшись по лесу, уже не первый день обстреливала двадцать чеченских партизан, укрывающихся в близлежащих горах.
Четвертый
Вспомните того безрассудного, великолепного капитана, точно вышедшего из старой дореволюционной сказки, которой жил в совсем не в дореволюционные, а в более поздние времена. И вот он вдруг, не желая пристать к гавани, поскольку гавань находилась на территории Советского Союза, вот он вдруг собственным усилием воли или своеволия объявляет себя и свой экипаж эмигрантами и беженцами в одно мгновение ока и категорически доказывает свою приверженность открытому морю, превращая себя в правителя, а свой корабль в свободную и юридически не существующую страну. Их стали оцеплять, появились военные корабли. Капитана предали члены его же экипажа: заперли его в капитанскую рубку, а потом сдали в руки взбесившимся от этого своеволия властям. Он был расстрелян в одной из тюрем КГБ. В заключении, перед смертью, он читал «Дон Кихота» и писал жене, что это хорошая книга.
Пятый
Ильич. И какая разница, что у него было за имя. Ильич или Борис Ильич – не в имени тут дело, да и отчество только жухлая приманка, доставшаяся нам, впрочем, из наших юношеских пропагандистских и почти равнодушных до результата этой пропаганды времен (равнодушие оправдывалось тем, что вся партийная система, построенная на терроре и доносительстве, была на месте и если что…) Хотя он в отличие от идеологических работников как раз любил скорый результат, гнался за ним и верил в достигаемость поставленной цели.
Он был вербовщиком в царство теней для видов уходящей в небытие власти, вот только власть тогда не знала, что она уходит в небытие. И мы того не знали. Да-да, он искал людей, которые могли бы пойти с ним в разведку, спуститься в ад по убеждению. Собственно говоря, если бы у него было отдельное удостоверение, в нем бы и следовало записать отдельной строкой: «вербовщик в царство теней». Такое удостоверение, которое предъявляется по требованию. Он имел кабинет в одном из хмурых, унылых бункеров монументального типа напротив Смольного. Подрабатывал тренером по батуту в районной школе, расположенной на углу двух улиц поблизости.
Да-да, совсем по соседству. И в этой школе через завуча он организовывал турпоездки с детьми в Карпаты исключительно во время весенних каникул. И упрямо и исключительно в одни и те же места. За что родители ему были равнодушно благодарны. Он брал меня в эти поездки и хотел посвятить в горные инструктора, хотя поднимались мы на довольно небольшую высоту, от силы тысяча пятьсот метров.
Какое-то время зазывал он меня к себе домой на Фонтанку, хотел посодействовать мне как начинающему щелкоперу, автору песен и т. д.
Ох уж мне эти водевильные замашки наших серьезных тогдашних партийных и комсомольских деятелей. Однажды он даже приманивал меня вступить в некий клуб, где крепкие молодчики занимаются карате, самбо и другими боевыми искусствами. Вроде бы речь о хорошей тренировке, как говорил он, а заодно и для того, чтобы поучаствовать позже еще в каких-то походах. Как он говорил, это просто организация такого энергичного, боевого резерва. Он наливал мне вкуснейший, ароматный чай в замечательные фарфоровые чашки. Чай был из Афганистана, откуда он вернулся за полгода до того с контузией, и тогда его жена развелась с ним.

