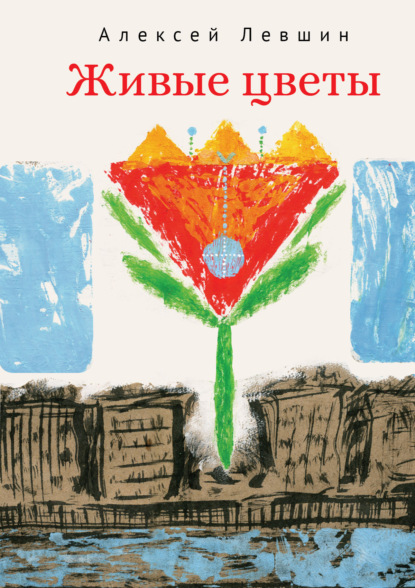
Полная версия:
Живые цветы
А вот еще одно воспоминание, и оно как раз ну почти что о вареных грибах. Да нет, я шучу. Мне вспомнилась еще одна история. Именно в тот поселок мама привезла мне текст роли, которую мне мой второй отец, мой отчим-режиссер, Геннадий Михайлович Опорков, назначил. Это была роль мальчика в пьесе Вампилова «Утиная охота». Я довольно быстро выучил текст, потом я стал его репетировать. То с мамой на даче, то дома один.
О репетициях ничего не помню, эта роль мне и по сей день кажется странной и в чем-то незаметно-прекрасной. Она кажется мне ролью ангела. Наверное, Вампилов часто думал об ангелах, ведь у него есть такая пьеса «Двадцать минут с ангелом». Вот он этот мальчик-ангел, вот он приходит, ничего не понимая, приносит взрослому человеку траурный венок – так пошутили друзья над главным героем Виктором Зиловым. А мальчик и не знает, что этот дядя – главный герой.
Мне тогда казалось, что в тот момент, когда со мной происходит эта история – этот мой с Зиловым какой-то нелепый разговор, где он говорит мне фразы и что-то спрашивает, а я что-то мямлю – что в этот момент мир становится медленнее и добрее. Вот я приношу этот венок, вручаю ему, он читает надпись «от безутешных друзей» и спрашивает что-то вроде: «ты их видел, ты их запомнил», а я не помню, не знаю, кто мне дал этот венок. И это не важно…
По-моему, он мне дает каких-то денег на мороженое, я понимаю, что происходит что-то, чего я не могу изменить. И, возможно, мне помогало еще в этой сцене чувство, что взрослые были для меня тогда еще совсем туманными и непонятными.
Чего они хотят? Почему не изменят эту жизнь? Вот человек, над ним издеваются, его представили мертвым, а он не хочет ничего менять. И я понимаю, что я не могу ему помочь. Никак.
А когда я уходил в проем совершенно хлипко сколоченной сценической двери, артист дядя Володя Р., он же Зилов, всегда худой, с остриженной и немножко седой головой, успевал мне шепнуть одно слово. Шепнуть с позывом, с порывом, по-человечески и по-мужски: «Молодец». Наверное, я на всю жизнь запомнил вот это ощущение, которое было у меня, когда он мне говорил «молодец». И не было такого спектакля, когда бы он мне этого не сказал.
А однажды я просунулся за занавес, оттуда со сцены, и решил посмотреть, есть ли в зале моя учительница младших классов Александра Гавриловна. Мне было всего восемь лет, я учился от силы во втором классе. И вот совершенно неожиданным было не то, что я не увидел там мою учительницу, а то, что я не увидел там зрителей. Было уже темно, начинался спектакль, а я понял, что я каждый раз играю и говорю все свои слова как будто бы перед живой темнотой. Я представлял себе потом не раз, как открывается занавес и появляются люди, но я не вижу их, а только слышу их дыхание…
Да, а вот какое отношение ко всему этому имеют вареные грибы и мой факт нелюбви к ним? На этот вопрос я отвечу довольно сжато. На берегу Финского залива, в присутствии моей мамы, тети Тани, моего отчима Гены, дяди Бори, который был мужем тети Тани и прекрасным физиком первого и всемирного разряда, а также сына тети Тани Леши, мне выдали ломтик булки с вареными грибами. Только я проглотил их, как меня тут же вытошнило. С тех пор я не люблю вареные грибы.
Я не люблю вареные грибы, несмотря на то, что гриб довольно серьезное создание природы и один человек говорил мне, что грибница может уйти корнями в самую глубь земли, пронизать землю и выйти в космос с другой стороны. Несмотря на то, что я не люблю грибы в вареном виде, к ним самим я отношусь спокойно и хорошо: люблю их собирать, люблю есть грибы маринованные, люблю и соленые. Несмотря на все это, я ненавижу именно вареные грибы.
И сейчас я понял наконец, почему. Я понял!
Потому что: нет уже в живых ни Гены, ни дяди Бори, ни дяди Володи, который шептал мне сквозь темноту кулис в сколоченную декоратором дверь «молодец». Они все были гениальные люди. А теперь их всех нет! Их таланты, их улыбки, их открытия, их то сбивчивые, то задумчивые речи были либо забыты людьми, либо присвоены другими, либо уплыли потоком мутной воды, которая даже в Финском заливе была чище, чем вся эта вода времени. В Финском заливе воды всегда было по щиколотку, невозможно было там искупаться, никак.
Иногда можно было в этой водяной мелкоте по щиколотку дать какие-нибудь обещания. Я помню, что я, например, пообещал, что вернусь в Россию. Да, да, там, в Финском заливе, где мне было по щиколотку.
Жизнь идет дальше, а все трепетное, пылкое, все самое нежное может превратиться в вареные грибы. Не ешьте вареные грибы! Не варите грибы! Не надо.
И закончу я этот короткий рассказ только одной фразой. Вот как Чехов считал, что самое лучшее из придуманного человечеством – это соленые огурцы, так я считаю, что самое худшее из придуманного человечеством – это вареные грибы.
Ну еще две фразы… Не дай Бог нам наесться вареных грибов и прийти к тому, чтобы все самое лучшее, все самое талантливое, все самое искреннее, пронзительное и нежное, что происходит с нами, заслуживало бы не слова «молодец», а участи вареных грибов!
Кругом марш
– Кто у нас сегодня пьет?
– Я.
– Много?
– Жена запретила много.
– Ты брал в магазине две?
– Две. А что?
Звон, бульканье.
– Вась, а где те люди?
– Ты о ком?
Бульканье.
– Я о Ленине, Пушкине.
– Ты давай закусывай.
Бульканье.
– Тоже мне закусь! Вот огурец я еще понимаю, хотя он вялый какой-то, а твой этот сыр «Дружба».
– За дружбу!
Звяканье, бульканье.
– Не, я серьезно. Где те люди?
– Ленин твой проклятый, прописку придумал, а я до сих пор прописан у матери в деревне, и всю жизнь грузчик, по жизни грузчик и после жизни грузчик.
– Давай выпьем за то, что ты навсегда грузчик!
Звон, бульканье.
– Ты сегодня где ночуешь?
– Как где? У тебя.
– У меня. Так…
Звон, бульканье.
– А жена-то твоя, она это… нормальная же? К моей жене вон брат приехал с тремя детьми, так что она сейчас там вся в гостях. Жена-то твоя меня пустит?
– Ладно, пошли, но на ход ноги.
Звон, бульканье.
– Давай, еще по одной. Каждый.
Звон, бульканье.
– Ну, давай, эту за Пушкина выпьем.
– Неа, да не было его.
– То есть как? Как не было его?
– Все за него этот, как его, Гоголь написал, кореш его, я в газете читал.
– Давай тогда просто за душу выпьем?
– За мою?
– За твою.
– Очень мне надо. За мою – не надо.
– За душу людей тогда.
– За душу людей? Да не нужна она мне.
– Как это так душа не нужна, Вась?
– А кому она сейчас нужна, душа?
– За душу, короче.
Звон, бульканье.
– Я, знаешь, тут что подумал, Сереж, за душу людей надо отдельно выпить. Пошли в магазин.
Комната с зеркалами
Они жили в такой большой комнате, где вся стены были обшиты зеркалами, а за стенами были всякие полки и еще гардеробная с вешалкой. Что за гардеробная? Обычное пространство между шкафом и какими-то другими хорошо прилаженными сюда полками. Еще там был уголок со столом для компьютера, и все это пряталось за задвигающимися дверями шкафа-купе. И вот эти двери шкафа-купе как раз и были полностью обшиты зеркалами.
Ребенок спал, ее дочь от первого брака была в школе.
«Просто поскольку у Лены нет детей, она изливает все свое материнство на нас, ее близких, – сказала она. – Хотя она так всегда хотела иметь детей, но это понятно с ее этой дисфункцией».
«Ну да, я видел в детстве среди хлама в эркере, у нее был такой заваленный вещами эркер. Мы туда с одноклассником зачем-то залезли, нашли старую бархотку, пустую коробочку от кольца и еще такую медную коробочку, внутри которой был зуб. Так вот: я нашел у нее там такую книжку на гинекологическую тему с фотографиями разных болезней. Отвратительные такие фотографии черно-белые, и сама книжка была странная. А дальше там было про болезнь матки. Значит, у нее была какая-то болезнь матки, бывает дистрофия матки, я где-то слышал, недоразвитость какая-то».
Она сняла с себя футболку, под которой ничего не было, ее большая грудь сочно обозначилась перед глазами. И сначала он посмотрел ей на грудь, прямо так, фронтально, а потом он посмотрел, как она вся сбоку голая по пояс отражается в зеркале. И как ее бок переходит в круглый накат груди.
Так как-то он снизу вверх посмотрел, а потом опять задержался взглядом на груди в профиль. Большой сосок, большая чуть висящая грудь, он пошел за камерой и вынул ее из-за шкафа за зеркалом, она там была на одной нижней полке, такая серая сумочка, из которой он и вытащил камеру. Она вынула заколку из волос, подошла к вазе на столе, понюхала гладиолус, один листок упал на электронные клавиши, на которых он давно не играл. Она зябко поежилась, отчего ее груди колыхнулись над клавишами как будто в такт – там-там. «Я пойду в душ, ты почему-то всегда снимаешь меня голой и полуголой или когда я выхожу из душа. Еще, когда кормлю нашего сына. И в гостинице рядом с Тулузой ты снимал, помнишь?» «Помню, это всегда красиво. Я вот только волнуюсь, когда снимаю, фотографирую тебя, все волнуюсь, а что если распечатаю эти фотографии в мастерской, и там тебя кто-то будет стоять и разглядывать». «Может, кто и разглядывает, студент какой-нибудь, пока проявляет», – она улыбнулась и повела плечом, опять нагнулась над столом и погрузила нос в гладиолусы. Гладиолусы загораживали ее голую грудь, а плечи были хорошо видны, было ощущение, что она как будто ими пожимает – иногда так человек пожимает бровями, как она пожимала своими голыми плечами.
В этом во всем была какая-то старинная обычная уверенность молодой женщины, что вот она стоит во всеоружии своего голого тела. Вот сейчас она встрепенется, отшатнется. Она действительно отшатнулась, и он наставил камеру на одну из зеркальных стен, чтобы было видно, как в профиль отражается ее грудь, как бы погруженная в длинные и жесткие листья гладиолусов. «У тебя здесь пыльца», – сказал он, показав на ее нос, и попытался навести зум и снять ее крупным планом. Сначала лицо, скользит камера, вот грудь. «А чем плохо, что они смотрят? – сказала она опять. – Да. Или же все-таки смотрят при проявке автомата, а раз уж смотрят, так, значит, я еще не старая. Может быть, этому молодняку бедному, хоть какое-то удовольствие,» – она зевнула и как-то сразу пошла вдоль зеркальной стенки, огибая стол, стеклянный журнальный столик, диван, отражаясь то боком с торчащим вперед соском, то опять спиной, как будто она разворачивалась в таком медленном танце. И со спины было видно, как качается ее грудь при ходьбе. Все время казалось, что она должна прилипнуть к этой зеркальной стене, но она почему-то не прилипала…
Он схватил одновременно ее голую спину в идущем движении и разные плывущие отражения ее тела в зеркалах. То плечо с голой спиной, то опять торчащая грудь, еще ягодицы в прозрачной ткани трусов. Потом он опять сделал зум, чтобы крупно увидеть ее волосы, голые плечи и лопатки, потом он сделал наплыв, пускаясь вдоль ее спины. В этот момент она быстро стянула трусы, и в кадр попали голые ягодицы. Она развернулась немного с раздосадованным выражением лица, потом тут же перевернула досаду в чуть ехидную улыбку. Делала она это так, будто не была раздета, ведь ее болезненная уверенность, что рано или поздно ее позовут играть в каком-нибудь спектакле, как раз приучила ее так быстро менять выражения лица. Она все время играла такие свои короткие спектакли в жизни: и в одетом, и в раздетом виде. «Ты все снимаешь, а я иду в душ», – сказала она деланным полушепотом, камера поплыла вниз, крупно взяла низ живота. Он был почему-то весь складчатый после родов. Он убрал зум, стал снимать общим планом, она стояла на пороге кухни совершенно голая, с большой налитой грудью, с висящим тремя ярусами складок животом, с крупным лоном и большими тяжелыми коленями. И продолжала как-то странно ему улыбаться, и вдруг сказала: «Я вспомнила, как это называется: "детская матка"». А я вспомнил, что в народных поверьях говорится, что нельзя смотреться ночью в зеркало – пропадешь, исчезнешь с глаз.
А еще зеркало вроде как выпивает душу, а там была вся стена зеркальная.
Важные и неважные авторы
Я мог бы долго и уверенно рассказывать про одного занудного и милого француза, которого я однажды видел в жизни. Одного француза, который любил только двух авторов – Виктора Гюго и Жака Превера. Уютно-невысокий, с задумчивыми детскими губами. Но поскольку он был профессор Сорбонны Третьей и голосовал за социалистов, тут налицо явная профессиональная болезнь университетских европейцев – специализация. В Сорбонне встречались люди разной национальности: от румынов, турков и русских до греков и, конечно же, французы. И порой люди весьма примечательные. Но я не о них вообще-то…
Нет, я совсем не о них хочу рассказать, я скорее хочу просто высказаться. Предмет моего высказывания – это восемнадцать второстепенных авторов мировой литературы. Хотя, по правде говоря, когда-то они не были для меня второстепенными. Я, может быть, даже такой градации не устанавливал в юности и не думал еще о градациях, а вот потом они уже второстепенными стали. Или скорее так – они стали для меня авторами второго ряда.
Речь пойдет не о поэтах, а только о прозаиках. Про поэтов разговор особый. А поскольку проза чаще всего лишь комментарий к великим стихам, как сказал один хороший прозаик, не всеми теперь любимый, недурно шутивший, ну и Бог нам в помощь, а ему Царствие Небесное… а нам лишь покороче или позавлекательней писали чтобы, мы такие.
Так вот, поскольку о поэтах разговор особый, из них некоторые с нами всю жизнь, а иные приходят и уходят, вспыхивая как звездочка на небе сквозь лесные ветки: от кого стихотворение остается, от кого поэма, и это как воспоминание о мгновении радости или же грусти на какой-то утлой скамейке, когда раскачивалось пространство вокруг и нас несло в дали света и воздуха, где парили мачты кораблей и рисовались островерхие крыши резных теремов, и расстилался простор скатертью-самобранкой… но нет, давайте о прозаиках.
О, как я любил этих писателей в детстве! Как, сказать по правде, люблю их и до сих пор, но урывками и смутно. Первый из них Роберт Льюис Стивенсон. Как только я прочитал его «Остров Сокровищ», фактически на следующий день меня вежливо и аккуратно, попытались завербовать в мир кино. Поймали меня на концерте в государственной Капелле города Ленинграда, рядом со мной был дедушка. Поймали меня, правда, не за руку, поймали меня на крючок. Меня пригласили явиться на «Ленфильм», на предмет проб, чтобы решить, достоин ли я сняться в фильме «Остров Сокровищ».
И сразу же мне предложили роль Джима Хоккинса, то есть главного героя повести. Я рос в театре, артистов с детства видел на сцене и за кулисами и отлично понимал, что пираты будут дяди из театров, и все равно как-то захлестнуло в груди сердце: я-то, я-то буду настоящий Джим на настоящем пиратском корабле, свистать всех наверх и отдать швартовы! Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рому! Я стану этим самым сентиментальным, умным, проницательным мальчишкой, который почти ничего не боится!..
И ничего-то из этого не вышло. Я приехал на «Ленфильм», мне сказали, что на роль Джима Хоккинса назначен Федя Стуков – это такой известный тогда мальчик-артист был, рыжий мальчик с веснушками. Я долго удивлялся: «Зачем же надо было звать меня на «Ленфильм», когда известный на всю страну мальчик, звезда кино, уже назначен на роль самого проницательного мальчишки на свете».
Что касается «Робинзона Крузо», его я дочитывал между уроком физкультуры и уроком математики, это была библиотечная книга, она была заклеена и переклеена со всех сторон клейкой лентой, и надо было в конце концов сдать ее в библиотеку. Честно вам скажу, книга эта никогда меня особо не потрясала, мне всегда казалось, что в Робинзоне сосредоточены все лучшие качества находчивого советского туриста, который пошел в поход, не боится диких зверей, может развести костер при любой погоде, всегда имеет при себе все необходимое от консервного ножа до ацетиленовой горелки, словом, как капитан Врунгель или одноногий капитан Чарли Блэк из наших детских сказок, только там они все время кому-то приходят на помощь, а Робинзон занят помощью самому себе…
Так что Дефо был прочитан и забыт. Но были еще два автора моего детства, которые у меня сливались как бы в одного. Я читал их одновременно обоих. Воображению это слияние не мешало. Это были Александр Грин и Эдгар По. О, если сейчас я рассказал бы вам подробно все, что я думаю о Эдгаре По, о том, что вообще считаю его человеком по-своему безнравственным, неверующим и тяготеющим к некоторому сатанизму и черным мессам, то вы бы меня спросили: «А зачем ты его читал?». Ну, во-первых, я читал его в те времена, когда ничего не знал о Сатане. А, во-вторых, у обоих этих авторов были рассказы про море, про гадюк, про диких зверей и странных женщин. Мне казалось, что мир взрослых такой и есть, вот, как у них в рассказах.
Вот женщина умирает от укуса гадюки, мужчина отсосал ей яд, и сам потом валяется в кустах с потемневшим, одеревеневшим лицом. Вот человек мчится сквозь шторм по волнистому полю мирового океана, где он все время ухает в пропасть, а мировой океан кипит, а человек тем не менее выживает. В общем, я думал, что по сути мир взрослых такой, как у этих авторов; правда, в рассказах Грина и в его повестях и манерных поджарых романах он представал, конечно, куда романтичнее, чем у Эдгара По. Гриновский мир был добрей, он был пронизан какой-то морской сказочностью.
Сейчас мне сложно сказать, был ли именно таким мир окружавших меня взрослых, страдавших от состояния несвободы, царившей в нашей стране и тем не менее живших полноценной полнокровной жизнью, испытывавших какие-то полноценные человеческие чувства, а кто-то из них ухитрялся высказываться, немного публиковаться или писать в стол. Это были люди, которые писали рассказы, романы, стихи, фантастику, пьесы, и которые все время пели. Пели свои и не свои песни и могли быть при этом актерами, режиссерами, поэтами, физиками, океанологами и писателями одновременно. Нет, я не говорю о Высоцком и Шукшине, о них я знал понаслышке.
Я говорю о тех питерских людях, о тогдашних представителях богемы, которые, на самом деле, искренне и честно выражали свою принадлежность к странному племени романтиков. Вот они тоже, кстати, любили Александра Грина, и Грин удивительным образом вдохновлял их на честность и неподкупность. Наверное, все-таки мир окружавших меня взрослых был куда интереснее, чем мир персонажей Грина, потерянных между несуществующими морями и прозябающих в ожидании морских побед в несуществующих городах…
А еще мы в очередь вслух читали Зощенко в палате пионерлагеря под названием «Космос», и чаще всего мне казалось, что надо же, как Зощенко преувеличивает, и потом что он показывает: таких людей почти нет. Откуда ж я знал, что такими несчастными, замученными, по-своему изобретательными, но очень злопамятными людьми была наполнена советская реальность… Это теперь я понимаю, что реальность двадцатых годов в виде отзвуков, таких вот пролежней на душе дала ходячий бестиарий странных сатирических персонажей, и потом многие из них были сыграны гениальными актерами в комедиях Гайдая, Данелии, Рязанова – все эти Лелики, слезливые папаши и Остап Бендер, Киса Воробьянинов и компания. Ну и еще персонажи из «Ивана Васильевича», который «меняет профессию». В общем, зощенковские персонажи казались мне в детстве абсолютно нереальными, придуманными специально для каких-то комедий. Которые тоже были для меня почти нереальными. По большому счету, кроме, может, двух персонажей «Бриллиантовой руки», то есть Семен Семеныча в виде Никулина и Козодоева в виде Миронова, ну и, конечно же, Лелика-Папанова, а, тогда трех, все остальные персонажи всех наших чудо-комедий казались мне абсолютно нереальными.
А сейчас я понимаю, что Зощенко был даже не сатирик, а диагност. И писал он не смешные, а страшные рассказы о существе под названием «хомо советикус», ну да, об этом было уже говорено, переговорено, рассказано. Сейчас Вы можете услышать об этом по интернету у различных блоггеров, но мы до сих пор толком не знаем, что такое homo soveticus.
Потом я еще читал Конан-Дойля. Что говорить, я еще до сих пор помню тот душный южный балкон дома под Одессой, где я отдыхал с бабушкой и где я конан-дойлевского Шерлока Холмса начал читать, а продолжил уже в душной комнате двухэтажного домика, который мы снимали на море, а таких домиков там было пять в одном саду. Бабушка из-за отсутствия подруг тогда часто ворчала на меня, ей было скучно, а во время одного из купаний я чуть не утонул.
Ночами иногда не мог заснуть, боясь, что какая-то экзотическая змея проберется по шнурку в комнату, хотя, как известно, этот факт основан на абсолютной ошибке автора, не знавшего ни того, что змеи не могут ползать по шнуркам, ни того, что змеи от природы глухи и никакого звука волшебной индийской свирели они слышать не могут. Перечитайте «Пеструю ленту» – это абсолютный фэйк, как бы сказали сейчас, то есть полная выдумка. Да-да.
Дальше идет целая вереница французских авторов. Для начала – это была книга о Тисту, мальчике с зелеными пальцами, которую написал Морис Дрюон. Тисту прикасался к любому оружию на Земле, и оно зацветало, обрастало побегами, и стрелять из него было невозможно. Это происходило с ружьями, с пушками, с пистолетами – вот такая история пацифизма в мире, который к этому не готов…
А еще мама переводила тогда пьесу «Пчелка» Анатоля Франса, и там была принцесса, с которой что-то происходило, а что происходило, честно говоря, я не очень помню. Помню, что я пробовал ее как-то мысленно полюбить, и почему-то этого не случилось… Я был влюблен всегда в настоящих девочек, и лет до двенадцати так и было. Правда, была все же одна воображаемая девочка, которая мне однажды приснилась…
Чуть позже в театре юного зрителя, который называли, разумеется, ТЮЗ, (вот название, которое я не всегда почему-то любил расшифровывать), я увидел спектакль «Ундина», по забытой теперь пьесе Жироду. По сцене двигалась и говорила напевно фразы такая странная девочка, и вот это было уже поближе к реальности, несмотря на всю сказочную фантастику этой истории.
Такие девочки уже встречались мне в классе, мне казалось, что они должны целыми вереницами учиться в какой-нибудь студии, но не обязательно театральной, а где-нибудь в особом кружке при Эрмитаже, и красиво рисовать. Да, Ундина была такой странной девушкой-не-до-конца-женщиной. Таких же странных женщин-актрис видел я в театре, в котором рос. Они так же томно ходили по коридорам и так же томно заходили в гримерную, и выходили на сцену тоже всегда томно.
Я не знал, как мне воспринимать все вышеупомянутые французские истории, кроме одной их важной составляющей, которую могу определить сейчас, а тогда лишь чувствовал, я имею в виду большую эфемерность. Все они были прозрачны и похожи на нестойкий туман по сравнению с теми историями, которые я обычно читал и любил. Но мне казалось уже тогда, что эта эфемерность принадлежит к давно ушедшей цивилизации манерной и утонченной культуры, и я был прав.
Ведь эта цивилизация окончательно канула в Лету вместе со Второй мировой войной, она ушла под воду в тот момент, когда Советский Союз прорезали бесконечные лагеря, когда начались пятилетки и строительство «светлого будущего», а потом Вторая мировая война и Освенцим с Бухенвальдом.
Поля войны и концлагеря окончательно смели эти мотыльковые произведения из памяти людской… и вот что удивительно: сейчас мрачные и пронзительные произведения, написанные нищими аутсайдерами и изгоями, рано убитыми или застреленными в упор или же прошедшими всю войну и лагеря авторами – все эти произведения в прозе и стихах, похожие на крик из горящего дома и на пантомиму на краю братской могилы между лопатой и лагерным набатом, – читать интересней, чем всевозможные эфемерные истории, кроме, пожалуй, «Сирано де Бержерака», которого я, впрочем, тогда еще не читал… И не спасает тот факт, что «Тисту» и «Ундина» – произведения послевоенные или написанные в разгар Второй мировой; просто почти сразу, после войны, уже в Европе и России открывали пророков Кафку, Бруно Шульца, испанскую поэзию, тогда же взошла звезда Ионеско, тогда же написал свои лучшие грустно-пронзительные пьесы-фейерверки Сэмюэл Беккет, тогда же были всемирно открыты Цветаева, Булгаков, Мандельштам, а потом Хармс с обэриутами и Шаламов с Платоновым.
В двадцатом веке с тех пор не осталось больше места для изысканных сюжетов, которые нежно рассказывали историю кукольных страстей среди кружев и занавесок. Даже детская литература несла в себе отсветы человеческих горестей и отдаленный гул сирен «воздушной тревоги», и шепоток смерти: к примеру, «Хроники Нарнии», «Мио, мой Мио!», «Маленький принц», сказки Софьи Прокофьевой, «Дракон» Евгения Шварца или же печальная двухчастная повесть о короле Матиуше, написанная Янушем Корчаком, отправившимся в Треблинку вместе с воспитанниками детского дома, где он работал, пренебрегши предложением от оккупантов остаться в Варшаве и войдя со своими сиротами в газовую камеру…

