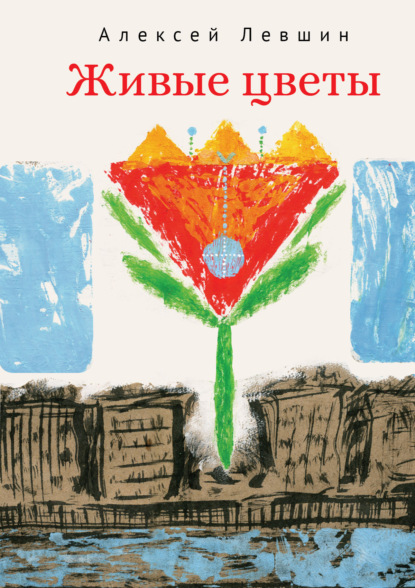
Полная версия:
Живые цветы
И я почувствовала, что народ объединился во Христе перед лицом этих женщин убиенных. Я подумала: их за то и настигла темная смерть, что они крестик носили… А я слышала, Лида как-то говорила племяннице: «Ты крестик-то спрячь.» Ну она не понимала. Та ей сама заправила крестик под одежду. А все по ним видно было – и что они крест носят, и что дома иконы.
* * *Я бы и не вспомнил про эти два разговора так наскоро, косо, стремительно, если бы тогдашняя моя вторая собеседница – а ведь прошло тем разговорам уже много лет – не сказала мне однажды перед смертью в нашем последнем телефонном разговоре:
– Все бы к своим, к тем, кто крещеные, туда, на небо. А то я все делала аборты и избавлялась от своих светлых детей, от радостных моих ангелов… и не родила ангела, а родила вот кого пришлось.
3.А мне недавно приснился сон. Мы сидим, нам хорошо, уютно. И это будто бы большая петербургская квартира. Она говорит с нами, сама так опрятно одета и платок на ней пуховый даже, говорит со мной и с моей женой. Что надо читать классиков. Пруста зачем-то обсуждаем, а не Толстого, которого она так любила. Потолки большие. Мы сидим на диване. И вдруг как-то тревожно становится. Тревожно от того, что уже надо уходить. Уходить, уходить – она нам это несколько раз повторяет. Еще повторяет фразы про время и как-то сама себя чувствовать начинает так, будто куда-то торопится. Она говорит несколько раз: «Пора. Времени у меня уже не осталось.» А я думаю: нашей любимой Ольге Андреевне надо уходить, а нам как быть? Здесь всем управляет ее дочь, я это понимаю… «Что бы взять такое на память?» – думаю.
И беру, практически краду диск с музыкой Чайковского и какие-то старые фотографии. Мы спускаемся по старой лестнице, а я еще успеваю подумать: а ведь я не люблю Чайковского.
Что-то нам наша Ольга Андреевна хотела сказать, приснилась мне с какой-то заботой о нас. Хотя она-то как раз Чайковского очень любила. И все эти повторы…
И как-то потом всплыли в памяти эти два разговора.
История на взморье
Уж не знаю, стоит ли вспоминать одну историю, а вспомнить хочется. Это, считайте, каприз или же нет, считайте это признанием за рабочим столом, коротким рассказом о литературных буднях начинающего писателя. А, впрочем, никакого настоящего письменного стола нет в помине и сейчас. То есть стол есть, и он отодвинут от окна, где я обычно сижу за ним и пишу. Стоит на нем ваза, в вазе мимоза, на этом столе мы расставляем блюда, бокалы и салатницы, когда принимаем гостей, на этом столе стоят компьютеры, хотя я до сих пор многое пишу от руки.
Сейчас были праздники, удобно принимать гостей за большим столом, вот он и стоит раздвинутый посреди комнаты на свою максимальную длину. И никогда долго у меня не было письменного стола. То передвигали его, то разбирали и уносили на чердак, а то и продавали. Но это в прошлой жизни.
Я писал на коленке, в автобусе писал, в поезде. Стоя на улице и сидя на скамейке – желательно под кустом зацветшей глицинии. Глицинию можно заменить сиренью. А можете поставить на ее место жимолость или жасмин, если так живописнее. Я согласен. Хорошо это можно себе представить – человека под буйно разросшейся сиренью – он в холщовом пиджаке или в крылатке и еще рядом парусиновый портфель. А вот поди нарисуй: получится вялая пародия на Борисова-Мусатова. Опять я ударился в ностальгический маскарад. Все. Возвращаюсь к началу.
До сих пор мой писательский стол, мой письменный стол – это уж скорее улицы родных городов или точнее: улицы родных и зарубежных, реальных и воображаемых городов. И вот там, среди них и вытанцовывается эта история, вызваниваясь как мотив Моцарта или Шуберта. Ну пусть такое начало, хорошо.
Итак, мы не имеем письменного стола. Или стола под кустом сирени. Но мы имеем начинающего писателя. Закройте глаза и представьте его себе. Пишет немало, амбиция у него одна и главная, и это даже не амбиция, а страсть: писать. Вот прожил день, и надо писать то, что пришло в голову… или пришло не в голову, а как-то само по себе пришло, в сердце что ли. А иногда откуда-то издалека, И не понятно, где оно проклевывается весело и ненатужно: здесь, в пальцах, или здесь, в груди…
А, главное, что у этого молодого человека зуд и привычка взахлеб что-то писать каждый день уже стала неизлечимой привычкой и радостным болезненным зудом. Поэтому он и пишет каждый день. Пишет он заметки, какие-то куски наблюдений и описания ситуаций в диалогах, а больше просто подробные воспоминания, а еще стихи, небольшие рассказы, странные пьесы. Все это пишет он в записную книжку. Для кого – еще неясно. Пишет он от руки. Еще он обожает писать письма. В том, что он пишет, есть любовь к языку и к жизни, есть хорошо описанные впечатления детства и окружающей его реальности мирной западноевропейской страны. И тоска по родине. Начинающий писатель живет вдали от родины, он студент, он учится за границей. А людей настоящих в том, что он пишет, пока мало.
Представили его себе: русый, любит говорить монологами, довольно высокого роста. Все, можете открывать глаза.
Это еще напрямую девяностые годы, и я поехал в Лондон. Вот я заказываю эль. Имитирую чистый английский язык в баре на Бэйкер-стрит, а квартиру Шерлока Хомса почему-то не посещаю. Дальше мы едем в Кент, меня сопровождает одна француженка, и я вообще не понимаю, что мне говорит служащий с тележкой передвижных напитков. Моя подруга – это такая типичная занудная француженка, разбирающаяся во всех аспектах бытовой жизни и кулинарии, что не мешает ей, впрочем, гулять от мужа и хорошо знать английский. Она мне сразу говорит, что вагонного торговца мне не понять и, чтобы я не расстраивался, объясняет, что у него этот безумный акцент области Кент.
Кент – это взморье, похожее на Нормандию, здесь отдыхал часто Чарльз Диккенс. Можно посетить его дом, и, кажется, мы это и делаем, приехав в этот городок Higham, неподалеку от Портсмута, где Диккенс во второй половине жизни купил дом, прозванный «Холодным домом». Мы посещаем дом-музей Диккенса, глядящий на взморье, идем по берегу моря.
И чем же я занимаюсь все эти два дня, пока мы находимся в Кенте? Поселившись в номере отеля, под который отведена отдельная большая комната двухэтажного коттеджа, я усаживаю замужнюю подругу в кресло и одним махом читаю ей занудно-подробный рассказ о девушках моего поколения, о тех девушках, которых лишали девственности в шестнадцать лет какие-то стареющие развратники-артисты. О девушках, которые были влюблены в меня, а я в них. О девушках, которые жили в юности непонятной разгульной жизнью. Я перевожу этот рассказ напрямую с русского на французский, в нем очень много нравоучения.
Хотя сам я вздрагиваю все время от того, что говорю о разврате и утаиваю те подробности, которые мне так хотелось представить в момент рассказывания про этих девушек, но которые я себе запрещал подробно представлять, чтобы не смаковать их и которые не записаны…
Я смущался всегда такой непристойной литературы, хотя именно во времена моей юности она стала официально и на плохой бумаге печататься и ходить по рукам на русском языке. А на французском – пожалуйста – доступна была во всех книжных магазинах Франции. А поклонником «Лолиты» я никогда не был. И дело в том, что мне было как-то жалко этих девочек моего поколения, и я как-то не хотел представлять их в ситуации разврата…
Француженка эта в меня влюблена, слушает меня внимательно, хотя в этот момент мечтает о плотских утехах, но сильно скрывает эти свои намерения. Потому что зачем же показывать свои плотские аппетиты, когда я читаю что-то грустное и назидательное. А мне-то что? За окном песчаные взморья, полоска Ла-Манша, который виден с другой стороны. Это середина весны, а мне необходимо развить, размять в пальцах и мысленно, и губами эту тему про девушек моего поколения. Про девушек моего поколения, лишенных чести, достоинства и радости в шестнадцать лет.
Мари говорит: «У нас такое было после тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, но не со всеми». Она ничего не поняла – я рассказывал ей про истерзанную душу своего поколения. И я тогда не думал что это моя душа, что это она была девушкой нашего поколения. И я тогда не думал, что я начинающий писатель.
С детства я много читал французской литературы
Я с детства что-то все время читал и писал по-французски.
Это, правда, не означало, что я прекрасно всегда понимал французскую культуру и мог определить разницу между каким-нибудь Виктором Гюго. – брр-рр, скучно, скучно. – и Борисом Вианом – а тут зачет! – как я могу это сделать сейчас.
Французы, приезжавшие к нам в школу, были всегда хорошо одеты, и они все были непривычно-ароматными. Я бы тогда не определил их ароматный запах словосочетанием «благоухали духами», как сказал бы сейчас. Впрочем, сейчас дорогими духами и одеколоном благоухают уже много разных мужских и женских щек, лиц и шей. Так было до недавнего времени, ибо есть парфюмерные французские лавки от Москвы до Тамбова, от Краснодара до Владивостока, и есть дьюти-фри в аэропортах…
Все французское было для нас неким постоянным фоном, поскольку учились мы в школе с углубленным изучением французского языка. На углу двух улиц.
Не говоря уже о том, что французская культура, как и вся европейская, окружала нас тогда повсюду. С экранов телевизоров, со сцен театров раздавались слова и истории из романов, сказок, пьес, детективов, происходящих в такой какой-нибудь исторической Англии или Италии или Франции или Германии. Метания крупных воротил американского бизнеса и роковых женщин, подвиги Тома Сойера и честного голосистого Джельсомино, монологи Гамлета и мамаши Кураж, расследования Шерлока Холмса и доктора Ватсона, наивные восклицания леди Дулитл и Алисы в стране чудес – все это перемешивалось ярким калейдоскопом на страницах книг, на телеэкранах, киноэкранах и сценах, и текло, пузырясь и шипя, к нам в души. Слова «фронда», «мушкетеры», «испанское наследство», «гезы», «маркитанты», «миледи» звучали в перерывах между политическими новостями и названиями крепких и более слабых алкогольных напитков.
Сказки братьев Гримм с иллюстрациями братьев Траугот были немного мрачны и затягивали в красочный и слегка печальный мир. С иллюстрациями этих же братьев-художников куда страшнее оказались для меня причудливые сказки Гауфа, а увиденный в темной кладовке диафильм про карлика Носа напугал меня до смерти – так, что мне казалось, что если диафильм и кончится скоро, то сам я никогда уже не выберусь из этой заколдованной кладовки, ставшей этой страшной сказкой, где мальчик превратился в карлика, а девочка Грета в гусыню. Все это было заманчиво, интересно, страшно и не до конца страшно одновременно.
Странной была российская жизнь двадцатого века. Странной она была всем – и отсутствием свободы, и внезапным героизмом, и своими мечтаниями, и своими детскими играми. Больше всего странного было то, что мало кто из нас играл просто в какие-то русские сказки, всем хотелось романтики, все мы были капитаны и пираты, и мушкетеры. А что французы? Французы во второй половине этого века, во времена моего детства, царили в русской жизни на тех же основаниях, что и пьесы Шекспира, «Фауст» Гете и самые лучшие переводные романы от Диккенса до Сэлинджера, от Фитцжеральда и Генриха Белля до Маркеса и Кортасара и так далее, так далее и тому подобное.
Все эти иностранные романы инсценировались, экранизировались, и среди них каким-то образом занимал свое почетное место роман «Мастер и Маргарита» и как-то боком, но вполне рядом возникали сказочные пьесы Евгения Шварца.
Это чуть позже я стал понимать, что все наши игры в персонажей «Властелина колец», в «Мастера и Маргариту» и в «Трех мушкетеров», где мне поочередно доставались роли мучительно-верного своей миссии Фродо, шаловливого шалопая Кота Бегемота и такого вполне себе Д’Артаньяна, что это была одна большая устно разыгранная книга и что книга эта была самой захватывающей в моем детстве… Хотя книги я любил читать и про себя, а не только вслух, и проживал потом прочитанные истории подолгу. А из всех книг обожал почему-то сказочные. И потом Пушкина, Гоголя и русскую поэзию.
Была дома книга с нарисованным большим петухом, и называлась она «Сказки галльского петуха». Думаю, что неосознанно поворот от всего мило-французского, красиво-европейского окончательно произошел у меня после чтения Достоевского, а уже позже Мандельштама и Пастернака. Почему Мандельштам? Ведь он был поэтом, погруженным в ощущение ежедневной жизни внутри мировой культуры. Он прекрасно знал, что корни всех культур очень близки и что одна история, написанная на одном языке, может найти отзыв в другой истории, написанной на другом языке. И что строчка, написанная Петраркой, находит свой отзвук в строке русского поэта.
А Достоевский, говоривший о всемирной отзывчивости русской души в своей пушкинской речи. А Пастернак, переводивший великую европейскую драматургию и поэзию от Шекспира до Гете? Почему именно они повернули меня к России, да еще Цветаева? Не знаю.
А потом я уехал, ни на капельку не повзрослев, и понял, что, живя в России, все наивные и немного образованные люди стремятся к образу Франции и к образу Италии и вообще к смутному образу Европы, как к какому-то сновидению, к сказке о благословенной земле, о земле справедливости и изобилия, «Pays de Cocagne» средневековых легенд, к некоему Эльдорадо… Посмотрите известную картину Брейгеля, «Страна Лентяев» (это та самая сказочная страна): огромные блюда, разинутые рты, руки обжор в карманах бархатных жилетов, обжоры с большими животами, лежащие на земле, и кто-то спит, а кому-то еда, питие и яства сами готовы падать и литься в рот постоянным потоком. Над ними на столе, продетом на ствол дерева, стоят разные блюда с едой, а на крыше ближайшего погреба тарелки с пирогами и блинами, а тут под ногами скачет недоеденное яйцо на ножках, а вдалеке бежит свинья с продетым ей под шкуру ножом.
И что? Есть она, такая Страна Изобилия? А что мы должны за нее отдать, уезжая туда на время, на учебу, на так называемое ПМЖ? Свою идентичность, привычки, часть души? Душу вообще? Немые и невыразимые особенности своего характера?
Не получится. Есть ведь такое хорошее выражение: «Уезжающий из страны меняет небо, а не душу».
Варианты происходящего
Я даже затрудняюсь теперь сказать, как это было. Помню, что рассказ не писался, а нужно было написать. Пообещал, да неважно кому, опубликовать должен был, да неважно где.
Словом, рассказ не писался, я позвонил человеку, с которым был знаком не только чтобы шапошно, а вообще против шерсти. Мне потом про него рассказывали, что он продюсер, который хочет стать режиссером, а еще, что он издал какую-то книгу афоризмов абсолютно неизвестного доморощенного мыслителя по имени «Сысой первый», которого, возможно, и нет вовсе, потому что это он сам. Первые пятнадцать афоризмов были долгой, занудной критикой женщин, начиная от женской внешности и заканчивая особенностями женского характера в обобщенном виде.
Все странно-несерьезные люди из тех, что мне попадались в жизни, носили определенные имена. Да и к тому же, не так уж эти имена были безразличны русской литературе или нашей истории. Возьмите для начала Александра Сергеевича… Вы поняли, какого.
Ну ладно, хватит. Хватит играть мысленно с разными сущностями и перекидывать их в разговоре, что называется, с одного полюса на другой, давая им то знак плюса, то знак минуса.
Короче, страдая крутой биполярностью, где добро заменяет зло, а север заменяет юг, он вышел из дому… И звали его Сережа.
Не получается начало рассказа.
Этот Сережа, верящий в свое эзотерическое чутье, сказал мне однажды: «Очевидно, те два мужских имени, которые тебя раздражают, наша история уже отработала.»
Ладно, не буду писать рассказ. Просто расскажу, что в тот день произошло. Я вышел из дома. У меня была назначена встреча.
Ну так вот, а человека, который ее назначил, звали Тема. Он так и просил себя называть: не Артем, а именно Тема. Большего соединения гламурности и вычурности трудно отыскать, как и во внешнем виде (какие-то цепочки, брюлики, висячие сережки с крестиками и ящерицами), так и в такой манерной тягучей жеманности. При первой встрече он меня как раз этой жеманностью и повеселил, а при второй встрече уже… но, собственно, не о ней речь.
Правда, он поставил надо мной опыт. Опыт этот на недолгое время показался мне роковым, шуточно отыгравшись на состоянии моего сознания, если не сказать уж на всей моей физиологии, где разум составляет лишь сотую ее часть. Поскольку я впечатлительный субъект. Что уж здесь цитировать работы Юнга или Оливера Сакса про мужчину, принимавшего свою жену за шляпу! Зачем вспоминать одну-три фразы Яспесра из какого-то его психического труда, который я благополучно забыл? Нет, ничего я этими фразами про эту историю не объясню.
Собственно, те места, куда меня пожизненно заносит, никак ни Юнгом, ни Фрейдом не объяснишь. И не всегда мне эти места что-то хорошее приносят.
Итак, я позвонил Теме: «Тема, помогайте как-то. Мне сказали, что у Вас есть эта штука – рекордатор».
«Да, дорогой Андрей, можно это попробовать, хотя я с вами по правде говоря, положа руку на сердце, хотел попробовать обсудить один флуоресцентно-балетный проект, а, учитывая Ваши познания во французском, как и то, что, как вы помните из нашего первого разговора, моя прабабушка Аграфена Александровна родным языком считала французский, я бы хотел поговорить с вами и про дореволюционное время. Она когда со мной разговаривала, так часто плакала… (Тут я пропускаю весь его чудно-гламурный бред, бесконечно танцующий словесный перформанс, который он произносит баритоном с подключкой на говорок эдаких модных блоггеров. Опускаю я здесь также и то, что узнал о нем позже, то есть всю его биографию. Мы ведь с ним так толком и не виделись…) Вам нужно будет приехать и просто позвонить в домофон. Филевская 23, подъезд 2, цифра четырнадцать. Адрес Вы записали?»
1.Я приехал по указанному адресу, меня встретила какая-то невзрачная девушка, я прошел из прихожей в приемную. Приемная была такой небольшой комнаткой, что там были только какой-то шкаф и почему-то пуфик, и еще две детских игрушки валялись на полу. В остальном хайтековский стол и один белый диван, размером подходящий для карлика. Она тут же принесла аппаратик для карточки, и я расплатился.
Я не могу никак написать тот рассказ, и мне надоело, что я хожу по улицам и пялюсь на молодых девушек и пытаюсь что-то вспомнить, что-то уловить.
Девушка вернулась и выдала мне длинную шелковую повязку, а мне показалось, что под блузкой она не носит лифчика.
– Зачем это?
– Вы просто завяжите лентой глаза и входите в другую комнату.
– Завязать глаза?
– Да, я помогу.
Абсолютно неприятное прикосновение холодных длинных пальцев, и вот она подтолкнула меня к двери. Она подтолкнула меня к двери, я нащупал дверь, толкнул ее сам, вошел. Долго ли я буду еще привыкать к этой темноте?
Рассказ не пишется, а история продолжается… нда…
«Лика, подожди, не надо!» – мы и так уже много выпили. Мне надоело думать, что эта Лика, ражая, дебелая девица с пережженной пергидролем челкой, должно быть, балуется наркотой – таблеток тогда еще в ходу не было, соответственно, у нее было что-то другое. Ей же понравился этот итальянец, что же она устраивает передо мной этот спектакль? Только стриптиза тут не хватало… хотя не вынесу.
Она распахивает окно, там девятый этаж, а я не помню, чья эта квартира. Я стаскиваю ее с подоконника, волоку к дивану, все это время она меня донимает и начинает целовать в губы, в нос, в висок. Мне не нужна эта Лика! Там за дверью Аня, Анечка Д., с пронзительными голубыми глазами, с поджарым телом, с маленьким нежным лицом, и во все это – кроме ее ужасно худых и нелепых ног – я влюблен уже полгода, и почему она, зная это, увивается за Пашкой и считает нормальным, что я заперся здесь с этой Ликой в тот момент, когда Лика объявила, что хочет выброситься из окна?
Собственно, тут я что-то запутался. Наверное, все-таки не я с ней заперся, а она заперлась со мной, и все-таки Аня Д. никакого отношения к этому не имела. Она же не могла уговорить Лику, чтобы та со мной заперлась? Что происходит? Кто-то дергает дверь, тихие шаги.
Это опять эта девушка-ассистентка, я вернулся в настоящее.
– Вы кричали?
– Я ничего не вижу. Вы зачем-то показали дурацкую историю из моей юности, которая ничем не кончилась. Это была инсценировка самоубийства. Правда, это кончилось тем, что в тот же вечер на крыше высотного дома я стоял на краю и глядел вниз, пока Аня Д., в которую я был как-то резко влюблен, целовалась на той же крыше за трубой с Пашкой, которого потом убили. Взрыв, машина перевернулась.
– Понятно.
…Тогда я сам чуть не сделал то, что так надрывно и наигранно выкаблучивала передо мной Лика, разыгрывая возможное самоубийство. Я тогда сам чуть не сыграл в реальности свое самоубийство. Поднял ногу и чуть не ступил в пустоту. Огромный высотный дом на Гражданском проспекте и, собственно, внизу и был этот Гражданский проспект.
– Во-вторых, вы бы мне пояснили.
– А во-вторых, вот как раз вторая кнопка. Протяните руку, – сказал ее блеклый голос, и я как-то не успел сказать, что я все-таки ногу занес, но вовремя убрал и в пустоту не ступил.
– Нет, нет, я тебя понимаю и готов слушать всю ночь. Главное, только никого здесь не разбудить.
2.– Да они все так крепко спят, не волнуйся, что я не знаю дядю Валеру или Глеба что ли? Тем более что мы с детства знакомы.
Она худая, видны ключицы. Тогда я не знал, что неудавшиеся актрисы, которые обожают вести монологи о своей ужасной юности, где присутствуют изнасилования, четыре или пять случаев легкой овердозы от наркотиков и вообще на каждом углу то маньяки, то нарики, то какие-то небритые мужики, что такие девушки хотят через свои давно придуманные ими сценарии заполучить себе момент страстной ночи. И параллельно с этим сыграть несыгранный спектакль, благо публика подходящая – хорошо выбритый молодой человек с разинутым ртом. Нет, тогда я этого не понимал. Она рассказывала с оттяжкой, с уточнением деталей, с грустным и хорошо выверенным смакованием подробностей. Правда, рассказывала она по-женски, не по-мужски, не говорила про части тела в момент описания физического насилия, а говорила про свои состояния, говорила про то, как ей то выламывали руки, то пугали чем-то, пистолетом, например. Словом, это был хорошо налаженный треп-триллер с провалами в памяти, которые тоже были правильно подобраны.
И в этом трепе через наркотики и постель в итоге получалась какая-то жуткая трехлетняя беда, где ее содержали чуть ли не взаперти на квартире какие-то мутные молодые мужики, накачивая ее ежедневно наркотиками и по очереди пользуя ее, да еще вызывали к ней клиентов, зарабатывали на ней.
После второго часа ее рассказа я понял, что если это правда, а не американский фильм 1989 года выпуска, что если сейчас в этом 1995 году здесь, на удобной даче в небольшом селе километрах в девяти от Суздаля, мне во всем этом признается неизвестная мне девушка, то тогда она и есть символ современной русской души…
Хотя вполне могло быть, что она врет напропалую, но я ее все слушал: целовать ее мне не хотелось.
************
– Остановите!
– Вы опять волновались. Стучали в двери.
Опять этот тихий, доводящий до мигрени голос.
– Вы слышите, вы стучали в дверь? Я пришла. Можно снять повязку?
– Нет, что там третьим номером?
3.Я ничего не понимаю, Тема говорил мне совсем другое, говорил про внутреннее путешествие в самого себя, про поиск нужных тем, а тут. Кто предоставляет власть этому рекордеру переносить меня в прошлое? Ведь моя память в порядке, а душа знает, чем все это кончилось. Я сейчас дважды попал в безрезультатные ситуации с девушками, с которыми у меня ничего не было и не могло быть, потому что они меня не интересовали. Кто вытаскивает все эти истории?
– Совершенно не понимаю, зачем мне эти совершенно забытые мной встречи? Я ведь просто хотел окунуться в прошлое.
– Всего этого я не знаю, – как она ровно отвечает! – но Тема Георгиевич попросил Вас прослушать запись, если Вы занервничаете.
И плавный баритон поплыл по комнате: «Старик, я не думал, что Вы будете так волноваться, но предполагал это. Пока что это эксперимент, и мы ищем эквиваленты. Эквиваленты между тем и этим, грубо говоря, эквиваленты от сознания ко времени или от времени к сознанию. Эдакая биполярка! Можно дать что-то живое, но не всегда получается живое. Получаются какие-то недопроваренные, недожеванные куски прошлого. Раз, два, что-то вязнет в зубах, зачем-то происходит заново. Знаете, как листок, который налипнет на щеку? Да, к сожалению, мы слишком торопились, на ходу нам попались только такие ваши задушенные воспоминания. Попросите Ангелину промотать дальше записи».

