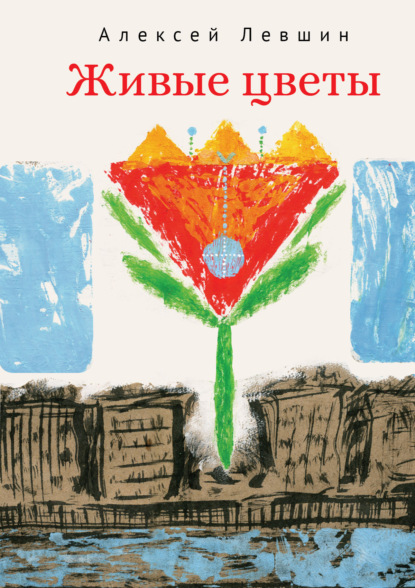
Полная версия:
Живые цветы
И не помню, с какого момента, а как-то бесчувственно-нравственным образом мы решили его больше не мучить. Красиво было бы теперь сказать для потомков: «Это я уговорил ребят, Кирилла и Глеба, значит, не бросаться в его сторону и не обзывать». А, на самом деле, произошло это как-то само собой. И там еще колокольня была чуть-чуть левее, куда мы, разумеется, залезали.
Там много брошенных церквей тогда было по всем деревням. Мы залезали на верхний ярус колокольни, а в колокол звонить боялись, если честно. Сверху смотрели вниз на поля, и опять там повсюду были такие просторы волнистой зелени и редкие крыши домов, что, пожалуйста, можно было, потом читать Есенина и все это представлять. Однако это я тоже вообще-то моим близняшкам не объяснял.
Ни про Есенина, ни про заброшенную колокольню.
И вот чувствую, что начинают, как сказали бы раньше, доходить мои француженки-близняшки. То есть идут они пешком, ни на какую машину мы не садились, сроду там такси никаких не было. Или чтобы вызвать. Идем по полям. Может, собственно, так и шли то ли их предки, то ли соотечественники сто семьдесят с чем-то лет назад, только в обратном направлении, хотя посмотреть надо исторически, попадали ли наполеоновские войска на Владимиро-Суздальскую Русь или нет. Во всяком случае, от Москвы туда, в сторону Смоленской дороги, а по ней дальше к Франции они шли. А мы тут шли в обратном направлении, в сердцевину так сказать, Русской Земли.
Дальше я им показываю слева, что, мол, там на холме погост с церковью. Я не знал, как это по-французски. Я и сам тогда смутно понимал, что такое «погост». Там была брошенная церковь, где гулял ветер, иногда люди нужду справляли, как у нас это бывало в советские времена по брошенным церквям. И везде осколки стенных росписей, я в свое время хранил взятый оттуда осколок фрески. Понятно, что и туда я моих французских гостей на экскурсию вести не собирался. Показывать, так сказать, мерзость запустения. Тем более я понимал, что у нас время все-таки ограничено. А сказать что-то надо.
Я и сказал: «Вот, здесь, значит, кладбище, на холме, а там церковь». Сейчас бы я объяснил, что у нас на погосте в деревнях хоронили, рядом с церковью. Во-первых, у французов, наверное, тоже так принято, но ведь наши близняшки были, я совсем забыл сказать, из коммунистически настроенной семьи, а коммунисты во Франции не верят в Бога как бы по часам: с утра до ночи. Хотя, может, у них и проскакивает какое-то сомнение, но в принципе в этом смысле они даже, мне кажется, сознательней были, чем наши коммунисты. У тех хотя бы бабушки в церковь ходили и втайне их в детстве крестили… Наши коммунисты и верили в Бога и не верили одновременно, и в домовых верили, и в черта, и в чох, и в вороний грай.
И вот я и думал: как мне это все объяснить про покойников, когда сам не очень понимаю. Я тогда повторил: «Вот здесь кладбище». Я смотрю – глаза у них помутнели. Может, от того, что кладбище оно всегда кладбище. И всякая готика на ум приходит. Мертвые с косами стоят… Наверное, у моих близняшек что-то промелькнуло в мыслях, они были усталые и, может, они подумали: у русских тут на кладбище ложатся те, кто дальше не дошли…
8.И тут я начинаю понимать, смутно, нет, ну правда, начинаю понимать разницу между нами и ими. То есть как обычно понимаешь в юности разницу между народами? Вот они приезжают в школу, у них жвачки с иностранными буквами, они хорошо одеты, вкусно от них пахнет духами всякими. То есть опять же на уровне товаров первой, второй и третьей необходимости у них порядок, а у нас то есть зря в голове торчит какой-то Маркс с производительностью труда и каждому по потребностям. Зря он там торчит. Маркс у нас вроде должен был лучше разложиться по полочкам, а разложился он так, что мы полунищая страна от начала до конца. А у них он разложился так, что они, значит, страна процветающего капитализма.
А потом начинаешь понимать, что мы все-таки в нашей стране люди и душа у нас как-то устроена, и вот у нас она устроена, видимо, для пеших прогулок, на огромные, так сказать, расстояния. А это был тот самый Владимирский тракт, через который шли каторжане. Короче, везде история, а ответов на громадные вопросы нет нигде.
Если так честно сказать, через все эти места пешим дралом русский человек добирался веками от места до места, от точки до точки, и странники были, и калики перехожие. Ну и арестанты. Франция в двадцать раз меньше, но к тому времени, когда мы уже с девушками добредали к цели нашего путешествия, я еще был из страны больших пешеходов (Россия отчасти и сейчас такой осталась), а они были уже из страны, где везде ездят на машинах.
Главное сказать, что мы уже к тому времени километров семь отмахали или, пожалуй, все девять. И подходили мы как раз к деревушке Абакумлево, и вот, чтоб жизнь была веселее, я вздумал отколоть одну такую штуку, чтобы… ну веселее чтобы. Потому что, смотрю, девчонки совсем уже никакие, совсем уже грустные. Мы идем по нашей улице, мы возле дома уже.
Я говорю: «Вы сядьте на лавочку, посидите», – подвожу их, собственно, к дому на нашей единственной главной улице. Подвожу к этому дому. «Сядьте, посидите, я тут сейчас сварганю вам чего-нибудь, ну вот водички вынесу». Они говорят: «В смысле? Какой водички?» Я говорю: «Вы понимаете, мы ж прошли с вами почти половину, а там вот.» – и показываю на те места, дали необъятные, которые для меня были довольно абстрактные и довольно сказочные, потому что там, говорят, и жили беглые зеки, отмотавшие срок и прочие.
Все эти поля дальше вдоль по течению Нерли были абсолютно пустыми. Дальше шли огороды, садовые хозяйства, но их не видать, а так имелось совершенно пустое пространство, куда мы с ребятами даже не забирались. Собственно говоря, конечно, я решил подшутить над девушками и сказал, что нам идти приблизительно еще столько же, для чего и показал туда рукой. Неопределенным жестом. Гадательным, можно сказать. В конце концов открыл я дверь, сняв амбарный замок.
Мои француженки говорят: «А откуда у тебя ключ от этого дома?». Я говорю: «Да друзья здесь живут, на полпути же надо где-то привал устроить». Как-то так почти сказал. Тут я вижу, что могу про себя осуществить их ход мыслей.
9.«Сумасшедшие, ходят они пешком, пошли мы от какого-то старого города, пошли по каким-то полям вообще непонятно куда, где давно двух князей убили, доходим до кладбища, и вот он открывает какой-то чужой дом, посреди какой-то деревни, а и всего-то мы прошли пол-пути. И, значит, у них каждые девять километров привал, значит, каждые девять километров не есть, не пить, а идти».
Тут я говорю: «Заходите в дом, хозяев нет». Дал им воды напиться из ведра, кстати, очень они это ощутили по-русски, что можно вот так студеной воды из ведра жахнуть, а дальше мы борщ съели, который мне тетя Света приготовила на несколько дней. Дальше, думаю, надо все-таки им открыть глаза, чего их расстраивать.
Говорю: «Успокойтесь, мы уже пришли. Будем сейчас чай пить, мы дошли до места назначения. Никуда мы дальше не пойдем.» И вот тут, наверное, с ними произошло то, что происходило с французами, когда они в 1812 году оставались у нас жить в деревнях и превращались в шаромыжников, от слова «шер ами» – это так они ходили по дворам, просили милостыню. «Шер ами» означает «дорогой друг», а у нас это как побирушка, но звучит нежно и с форсом. А потом некоторые из них оставались на жительство, не все же добирались назад до благословенной Франции, с этим тщеславным своим идиотом Наполеоном.
10.Но вернемся к моим француженкам. Единственая возникла проблема, когда я вдруг понял, что время-то на исходе, а их надо доставлять во Владимир. Вернее сказать, понял это не я, поняло это пространство, потому что через две минуты кто-то сигналит во дворе, я выскакиваю, и там сосед наш дядя Эдик. Видимо, его привезли сюда или в какую-то соседнюю избу привезли человека, не помню, а он был с ним. Я понимаю, что машина сейчас пойдет обратно и говорю: «Послушайте, Вы нас не довезете?» Машина была министерская, ни копейки за это платить не надо было. Тем более я подросток, денег у меня вообще не было. Вот как интересно тогда можно было жить в стране нашего развитого социализма – тебя могли оставить с борщом, с грибами солеными, с хлебом и квасом домашним, который дядя Валера отменно делал с изюмом и держал в погребе. Он хорошо его делал на настоящем хлебе, безо всякой химии. Словом, все было хорошо, а денег, извините, нет.
Думаю, были, конечно, смешные деньги такие, приблизительные. Мне ж надо было как-то за автобус из Суздаля заплатить, да и на обратный путь мне бы даже хватило из Владимира. Короче, понял я, конечно, что этот уазик их спасет, потому что какие мысли у них проскакивали после того, как они выпили чаю, я представить себе не успел. Думаю, что мыслили мои близняшки о том, что задержка дней на пять произойдет у них в русской деревне. Разомлев от борща, от русской избы, где пакля видна из щелей даже в стенах, они все ж обрадовались машине. Потому что для них обратный путь был какой-то просто легендарный, он уже тонул во мраке легенд.
И дело не в том, что человек не способен девять километров назад отмахать, а дело в том, что легко вспомнить, как ты дошел, но сложнее представить, как можно отмахать назад столько же. Вот поэтому им Бог и послал эту машину, в которой я, собственно, и доехал с ними прямо до городка районного значения Суздаль, а дальше, видимо, они уже на автобусе добрались сами до райцентра под названием Владимир.
И на сем знакомство моих француженок с Владимиро-Суздальской Русью, было, по правде говоря, окончено. Знали ли они, что такое произойдет, и спрашивали ли они своих других соотечественников, как те провели незабвенные три-пять часов, отведенных на свободное время, не знаю. Однако, совершенно точно ясно, не будь этой прогулки, не поняли бы мы, насколько мы в чем-то друг от друга отличаемся, а в главном близки. Вкус воды, усталые ноги, свет в избе после долгой дороги, радость в сердце – это понятно каждому человеку…
Не влюбилась бы, наверное, тогда, ненадолго и бесмысленно, в меня Лора, видно, сразу решив, что я какой-то магический человек, коли не провел бы я ее с сестрой через такие поля тихо и спокойно, когда соткался из воздуха дом, борщ, чай и машина на обратную дорогу. И вот если бы не было всех этих простых чудес и этой простейшей человеческой истории, то, наверное, мне невозможно было бы сказать, что все-таки русский человек необъясним и является какой-то аномалией, как магнитная Курская аномалия.
А французский человек хоть и аномалией не является, но иногда хотел бы побыть немножко русским, чтобы хотя бы стряхнуть с себя налет цивилизации, даже коросту ее, я бы сказал. Так что ему для этого даже хорошо девять километров пройти от города исторического мимо тех мест, где когда-то были убиты первые невинные князья русские, подростки Борис и Глеб, ставшие первыми русскими святыми. Понять, что это все в общем и целом одно сплошное счастье. Что это счастье, когда пьешь ты этот воздух полной грудью, и что другого счастья быть не может. В подростковом возрасте так точно, да и потом на всю жизнь от этого в сердце нужная ямочка. А все потому, что все-таки бешеной козе семь верст не крюк. Вот и все.
Химик этого лета
Я стоял у этого крыльца. Я ожидал эту девушку со средним размером груди. Господи, что я говорю! Для меня не имело тогда никакого значения, какой у женщин размер груди. Просто, когда обсуждаешь с приятелями разных женщин, выясняется, что они на размере груди фиксируются, и ты вроде тоже тогда фиксироваться начинаешь… если ты толком не влюблен и не женат. А тогда… помню эти мягкие очертания под кофтой и под юбкой, которая всегда двухцветная и плотная, – очертания неплохо сложенного, пухловатого ее тела – и я ее ожидал с этими очертаниями и с ее внезапными улыбками, которыми она то прощупывала тебя, то что-то решала.
Вместо нее вышла девочка, да-да, я вспомнил, белобрысая такая, и все время выбивающиеся пряди непослушных мягких волос. Я посмотрел на нее и понял, что, конечно же, я ее знаю. В пионерлагере я взял самолично как-то шефство над четвертым отрядом, ее звали Оля, она почему-то все время ждала меня на крылечке своего корпуса четвертого младшего отряда. Вечерами иногда медсестра рассказывала им сказки. Не та ли это медсестра, которая потом умерла от того, что приютила бездомную кошку, больную лишаем? Может быть. Не знаю.
Во всяком случае вот и сейчас на крыльце я увидел Олю, и она уже была чуть старше, года на два. По сравнению с тем временем в детстве. Я спросил у нее: «А что ты здесь делаешь?» «Я здесь с родителями», – ответила она.
Очень странно, но я ведь не знал, что потом мне приснится этот сон. Но когда она говорила, я почувствовал в ее голосе какое-то желание скрыть правду. Она и смотрела на меня грустными глазами, у нее всегда были грустные глаза, но не до такой же степени грустить, что это она! Я понял, что кто-то из родителей здесь с ней, и у нее неродной отец, а мама скорее всего развелась с отцом. Очевидно, неодолимое чувство чужеродности распространялось у нее и на мать, эту чужеродность в ее жизни поселившую… в виде отчима и в виде нового воздуха жизни.
А вот потом мне приснился сон, и я уже не помню, почему я стоял у этого крыльца, и почему я ожидал эту девушку, которую потом про себя назвал «химик этого лета». Что же она там нахимичила? Никакого отношения к ее полноватому телу все это не имело, да, наверное, не имело, нет, видно, не имело…
Довольно плохо освещенная комната. В комнату заходит человек, быстро сбрасывает с себя верхнюю одежду. Лица мы его не видим, потому что свет падает косо, мы не знаем кто это. Он садится на стул и начинает раскачиваться на нем, как делают обычно это подростки. С одной стороны, он ничем не занят, с другой – он явно прячет какое-то свое беспокойство. Через две минуты в дверь стучат. Заходит женщина в строгом унылом платье, приносит ему на подносе чай и две чашки и уходит. Возможно, что женщина в курсе того, что беспокоит этого человека, возможно, она знает, что он кого-то ждет.
И вдруг внезапно дверь открывается, и вот входит маленькая девочка. Белокурые пряди, они почему-то выбиваются, такие непослушные. Он резко разворачивается в сторону двери, говорит: «Закрой дверь». Судя по всему, девочка прибежала сюда по ошибке, она не должна была быть в этой комнате. Судя по всему, ей даже запрещалось обычно заходить в эту комнату, особенно вечером, когда отчим работает. «Ну что ж, раз ты пришла в такое время, придется тебе многое пояснить!»
Он подходит к ней и властно берет ее за запястье. Сажает ее на маленький колченогий диван в пятнах с какими-то странными крестиками и говорит ей следующее: «Не всегда из человека можно вынуть душу, а только тогда, когда он не готов к этому, и когда он приходит сам, как наивная жертва, тогда это и может произойти. Твоя мать не способна на такие подвиги. Разве она может отдать душу за други своя? Н-да, красивая фраза, практически никто этого не умеет, и женщины не умеют. Но маленькие женщины, вернее, будущие женщины… Отчего бы нет?»
И дальше происходит какая-то странная операция, а поскольку это сон, стоит ли объяснять ее подробно? После нее мы видим, как та же девочка, хотя, казалось бы, ничего не изменилось, как та же девочка сидит на диване, скрестив свои худые ноги. С такими большими глазами, а под ними синяки, наверное, она плохо спит. Вот она сидит на диване, скрестив ноги, смотрит на этого человека, который только что проводил какие-то пассы руками.
И говорит ему: «Да даже, если Вы вынете душу, Вы же не можете знать, что я умру?» «Нет, – отвечает ей этот странный человек, – ты и не должна умереть, ты просто будешь жить дальше так, как живут некоторые. Ну, тут должно сойтись много примет и качеств, не говоря о том, что планеты должны находиться в определенном положении, одна из них должна быть в доме Луны». Девочке не понятно, что это за планета в определенном положении в доме Луны. В конце концов, ей наскучивает этот разговор, а, может, проснувшийся страх берет вверх. Она соскакивает по-детски неуклюже с дивана и говорит этому странному человеку: «Вы знаете, дядя Тоша, мама сказала, что сегодня она будет поздно». И выходит из комнаты.
Казалось бы, ничего особенного в этом сне. Да, я потом не вернулся к этому крыльцу, я так и не помню, почему я называл эту полноватую девушку «химик этого лета», и почему я тогда ее так и не дождался.
Я до сих пор не знаю ничего об этой девочке Оле, которая была такая задумчивая в летнем лагере и всегда любила слушать мои сказки и истории. А тогда на крыльце она показалась мне еще более задумчивой, еще более расстроенной, чем раньше.
Дело в том, что я люблю писать истории, люблю чтобы они были похожи на сказки. Одного я не люблю – чтобы там было что-то страшное, какой-нибудь детектив размашистый, какие-нибудь душераздирающие подробности. «И вот он смотрит ей в глаза, и уже его пальцы сжимаются на ее маленьком горле…» Не-не-не. Это не мое.
Он не смотрел ей душераздирающе в глаза, его пальцы не сжимались на ее маленьком горле, но, быть может, произошло что-то такое, отчего и дальше она жила с такой как будто вынутой из тела душой, парящей где-то рядом с ней, над ее головой с непослушными прядями белокурых волос. И поэтому ее отсутствующий и немножко заторможенный взгляд вспоминается мне и по сей день, как редкое доказательство неизвестного мне человеческого диагноза.
Читайте Достоевского
– Я думал, Вы подарите мне старинное счастье, а Вы мне представили парад нищеты! Вот мы сходили на спектакль, и Вы прочитали мне отрывки из блогов. Здесь дело, может быть, даже не в блогах, а в возрасте, возраст же у меня еще не такой внушительный, но блоги я читать не люблю. Давайте лучше вместо блогов читать Достоевского. Почитаем, допустим, «Белые ночи». Вы не представляете себе, что такое Достоевский. Это подростки, они говорят, бегут через ночь, бредут, спотыкаясь, пока еще сил хватает. Чтобы навредить себе, сделать больно, но добиться правды. Да, это целая россыпь странных праведников, которая содрогается в судорогах, умствует и вместе со всеми сходит с ума. Со всеми, кто их окружает, и со всей Россией, и со всем миром. А не просто поодиночке совершают они какие-то свои подвиги и не такие прекрасные тихие подвиги, как у Лескова. Да и подвиги их не похожи на подвиги, скорее, похожи они на те же самые судороги. Или это девушки, которые философствуют, кладут на лопатки любого Шопенгауэра, тем кладут, что соединяют свою пылкую волю с необъяснимым желанием любить и через любовь понять человека. Достоевский – это страшный комментарий к «Евгению Онегину» и, возможно, к Евангелию. Все его мечтатели, доморощенные поэты, преступники, жуткие жулики, обычные жулики, умственные преступники, мистики, монахи, девы на выданье, куртизанки, полногрудые женщины, дети с большими глазами – все они носят в себе большую любовь. Полногрудые девушки, чахоточные девушки, матери семейства, пьяницы, дети с большими глазами – все они носят в себе большую любовь, любовь, которая больше их самих, любовь, которая развивается у них у всех как катар желудка. Начинайте с «Белых ночей», «Неточки» и «Идиота», дальше сразу читайте «Униженных и оскорбленных», только не читайте «Записки из Мертвого дома», сразу не надо. Потом попробуйте. В этой вещи автор и герои еще живут в разреженном воздухе и вообще не всегда встречаются. То есть, грубо говоря, то автор надевает маску героя, то герой маску автора, и ничего не разберешь. Да, еще не читайте всего этого гениально-проходящего, вроде «Села Степанчикова», «Дядюшкиного сна», «Скверного анекдота», оно хоть все и гоголевское, и скверное, и смешное, и всякое такое, и все наше, но все это предбанник к его «Бесам». А «Бесы» и вовсе пока не читайте, вот уж точно мир вакуума, начисто лишенный любви. Вы слушаете меня?
– Да, да, я просто задумалась над тем, что литературные персонажи могут быть как живые.
– Я говорю о мирах. Иные живут в пяти мирах, иные в шести. Я вот в шести или семи. Мир «Бесов» – это мир, из которого Достоевский предварительно выкачал почти весь воздух. Тут, возможно, огромные были болезнетворные микробы, вроде мировой революции или гомункулусы типа «хомо советикус» и вожди с фюрерами. Вы меня слушаете?
– Да. Без любви. Вы говорите «без любви». Вы сказали. А почему Вы сказали: они так живут без любви? А причем тут парад нищеты?
– Я не готов ответить на все эти вопросы. Я только хотел сказать, что нельзя жить в мире без любви, а если есть любовь, то можно вынести и окружающий нас парад нищеты и надвигающийся хаос. Хаос, который надвигается, и не понятно, когда он надвинется, но когда надвинется, мы уж точно заметим. Я просто вот еще что хотел сказать: иногда у Достоевского является к человеку душа, и она может явиться к нему даже в комичном виде, например, как какой-нибудь обманутый муж. Вот вспомните, Трусоцкий с крепом на шляпе является Вельчанинову в «Вечном муже».
Или вот, например, приходит к Вам Ваш двойник, веселый, наглый, хотя такой же рыхлый, невзрачный, приземистый, что и Вы, а Вы главный герой. Это я не про Вас и не про себя, это я про Голядкина. Про героя повести «Двойник». Вот так вот без диккенсовских назиданий все это и происходит. Душа приходит что-то спросить с человека. А что спросить? А человек и сам не знает. До поры до времени не знает, потом узнает. Иногда я думаю: «А человечество всегда было таким пронзительно-совестливым и вдохновенным? Или его таким выдумали Достоевский и Чехов?»
Сон Никаноровны
Никаноровна сидела и думала о двух вещах: о своем отчестве, которое не тяжелее отцовских сапог, что на ней, и еще вот, пожалуй, о значении слова «апофатический». Значение этого слова она так и не вызнала, это кто-то из молодых говорил, тот хлипкий очкарик, что входил в церковь с девушкой под руку. А и чего это в церковь да под руку? Потом, небось, отпустил локоток умный этот товарищ. Видимо, еще неженаты, видимо, живут вместе не расписамшись – как сейчас принято. А и наполнен словами под самую завязку. Сядет, небось, на кроватку, и все так словами, словами сыпать зачнет – нет чтобы женщину, значить, взять в оборот… апофатический он мужик, короче.
Учитывая, что она задала скотине корму, что у Машки опять лишай и надо завтра задабривать самогоном ветеринара Середенко из местного райцентра, и уже отложена тысчонка под скрепкой на бумажке с адресом, учитывая, что она продала два ведра огурцов городским гостям Сашки по прозвищу «барин», которых про себя звала отдыхающими – ничего, засолят-замусолят – так можно было и выдохнуть малек. Можно было, поглядев в мутный экран пыльного телевизора, прямо из кровати и ко сну отойти. Помывку в тазу Никаноровна уже совершила, и вот, потянувшись, на ноги надела шерстяные носки, а по телевизору шли то американские фильмы, то наши сериалы, то что-то про питомцев.
А на первом канале развернулась крикливая дискуссия о том, что же будет с Курилами. Никаноровна так и не заметила, как задремала так и не спознав, а что же там будет с Курилами.
И приснилось Никаноровне ровно два сна.
1.Вот сидит на своей грустильной кушетке один граф и тоскует. К нему бегут лакеи из сеней и спрашивают шепотком: «Что это ты, барин, скучаешь? Глотнешь травничку?» Да нет, все грустит, скучает граф-барин и только гладит себе бачки своей женской пухлой ручкой. «Ваше сиятельство, а то редьки меленькой прикажете, а то анисовой, а то медовухи, да моченых яблок?» Граф-барин вздыхает: «Отстань, Тришка». И Тришка скрывается вон. Вон, вон, вон за той портьерой. Бумажные люстры покачиваются, качаются свечки в прихожей от проходящего на цыпочках народа лакейского. Дверь открыли, ветер подул, почти все свечки и сгасли, а граф все грустит. Почти все лакеи в дворницкую утопали, а граф все грустит.
В 10.45 проиграла музыка в дорогих парижских часах, шермандерия всякая. Ага, ровно это тот час, как случилась кончина любимой и задушевной подруги, уж год как тому и случилась она или, погоди, два. Вот тогда и завел он эту часовую музыку: чтобы бом-бом и с переливами.
И вот смолкла шермандерия траурная, и молчит граф. Года четыре как не стало любимой его Таси, Настасьи, Анастасьюшки, заказал он ведь тогда колокол литой. Эх, да что там! Рукой махнул, опять сквозняк из сеней. Что это? Небось, опять Тришка. Неугомонный.
И вдруг из-за спины не графа, а самих часов выходит в голубом жандарском мундире белокурый такой немчик. Прибалтийский немчик явно. «Ты кто таков?» – спрашивает граф. «Я представлюсь, хоть я и Ваша галлюцинация. Служил я во время военной компании 1812 года в хранимой Вашим попечением пехоте, да, впрочем, в младшем офицерском чине. Поначалу во Псковском пехотном, к концу войны в оккупационном корпусе, отличился под Смоленском, ранен при Бородино, «битву народов» прошел, Париж с нашими войсками взял. А здесь я к Вам пришел зрелый и в чине уже. Хоть и не хочется особо про этот чин распространяться». Граф хмыкнул. Подуло новым столичным кабинетным ветерком, настоенном на чернилах, мухах и лизоблюдстве.

