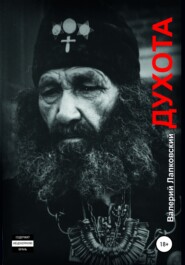 Полная версия
Полная версияДухота
В том, что Господь благоволил в осьмый день после появления из Материнской утробы подвергнуться обрезанию, Православие видит совсем иной смысл, чем ортодоксальные израильтяне. Чем являлась сия сакральная процедура в стране праотца Авраама и его потомков? Только санитарно-гигиенической мерой или акцией, символом чего-то более значимого, высокого? Ветхозаветное обрезание знаменовало союз между тварным созданием и Всевышним; Сын Божий Своим воплощением на земле вновь демонстрирует нерасторжимость благословенных уз между человеком и Богом. Но Он несёт людям совершенно неслыханное, новое учение о Царстве Божием, пребывающем не здесь или там, а внутри человека. Вход в это Царство открывает не обрезание, а Таинство Крещения, предтечей, прообразом чего было обрезание. Со Христа знаменем нашего союза с Богом становится не ликвидация крайней плоти методом примитивно-хирургического вмешательства, а более радикальное, чем в Ветхом Завете, отсечение грехов, новая жизнь, которая вздымается из могилы крещенской купели. Почему тем не менее Господь благоволили быть обрезанным? Ко времени Его пришествия на землю обрезание обрело силу Закона. Нарушение этого закона моментально вызвало бы подозрение, превратило бы Эммануила в мишень для немедленного уничтожения ещё до того, как Ирод пустил под меч тысячи младенцев, рассчитывая наугад, вслепую поразить родившегося в Вифлееме Царя Иудейского.
Для первых христиан из иудеев обрезание стало проблемой. С одной стороны, коли Христос обрезан, они должны последовать Его примеру. С другой, новое постижение Истины, поставив человека над покорным послушанием прошлому, делало излишним возвращение вспять: кто взялся за плуг, чтобы провести надёжные борозды Царства Божия, возвещенного Христом, тот не оглядывается назад.
Приверженцем обрезания оказался апостол Пётр, противником – не менее пламенный апостол Павел. «Пётр», – пишет св. Иоанн Златоуст, – «не осмелился открыто и ясно сказать своим ученикам, что должно оставить обрезание, субботу и прочие иудейские обычаи», ибо соблюдая их «можно истребить вместе с ними и веру во Христа». «Блаженный Пётр», – продолжает св. Иоанн Златоуст, – «не убеждал и не советовал, а только таился и устранялся, увлекая в потворство иудейству своих учеников», «выказывая себя неверным своим собственным лучшим убеждениям».
Апостол Павел смело, нелицеприятно восстал на знаменитейшего столпа Церкви, чья тень, если он проходил мимо больных, поднимала на ноги калек тела и духа. «Тонкая диалектика, изысканная ирония, сосредоточенность мыслей, молниеносная быстрота выводов» (Ф Фаррар, «Первые дни христианства», СПб., 1908) – всё было брошено против непоследовательности соратника, который не мог не сознавать, что поступается вечным ради временного, преходящего.
Яростные сполохи полемики между двумя апостолами сверкают в «Послании к галатам», где Павел укоряет собратию в лицемерии. Автору безразличны сильные мира сего, он не ищет их дружбы, не заискивает, не пресмыкается. Вот его замечательные слова: «И в знаменитых чем-либо, какими бы были они когда-либо, для меня нет ничего особенного…». Будучи свободным во Христе от немощественных и бедственных вещественных начал, он анализирует сущность закона и благодати. Обрезание – закон, но закон – лишь детоводитель к благодати, обретаемой во Христе. Бог послал Своего Сына в мир искупить подзаконных, освободить их от того, что устарело. «Человек», – учит ап. Павел, – «оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа». «Вы, оправдывая себя законом, остались без Христа, отпали от благодати».
Микроскопическая по количеству душ молодая Церковь Христа злила подзаконную публику как непонятная секта, раскол внутри иудаизма и потому подвергалась гонению. Не все христиане могли выдержать посланное им Богом огненное испытание. Многие принуждали себя и других к обрезанию. И так случалось на протяжении двух тысячелетий не раз, особенно в двадцатом веке, когда христианам не хватало мужества дать отпор врагам Христа, когда они «страха ради иудейска» превращали себя в обрезанных законопослушанием рабов безбожного государства, агентов тайной политической полиции, перепуганных клерков-клерикалов. Шкурка подобного обрезания оборачивалась шкурным интересом выжить любым способом якобы во имя Христа; Православная Церковь перерождалась в синагогу лукавствующих, вытравливая из себя память о том, что во Христе не имеет значение никакое обрезание.
Под влиянием критики Павла Пётр преодолел соблазн обрезания. По преданию, эти великие братья были казнены в один день…
Аминь.
Вербное воскресение
В истории различных государств, реальных и сказочных, были случаи, когда царь тайком покидал дворец и в лохмотьях скитался некоторое время среди простого люда. Тогда не печатали газет, не светилась вода в телевизионных колодцах, и потому императору или халифу почти не грозила опасность быть узнанным в лицо своими подданными. Он толкался на шумных площадях, бранился с торговцами на базарах, заглядывал в суды, приставал к прохожим, прислушивался к пьяной болтовне в корчмах, грузил зерно в порту, ввязывался в драку и нередко ему так могли намять бока, что едва ноги уносил.
Совершая вылазки из дворца, кесарь не отрекался ни от трона, ни от своего царского достоинства. В толпе или в окружении недоброжелателей он всегда мог кликнуть на помощь присутствующего неподалёку переодетого телохранителя. Превращаясь в нищего на час, царь развлекался и собирал из первых рук недостающую ему, как воздух, неискажённую информацию о положении внутри страны, чтобы лучше править державой.
Иисус Христос – Царь Небесный – так же как бы ограничил Свою власть, когда ради нашего спасения обнищал, воплотился в обитателя Римской империи. Конечно, тайна Боговоплощения не то что пример, взятый из практики переодеваний и приключений среди простонародья императорской персоны. Процесс истощения Божьей Силы в Сыне Божием непостижим и только внешне похож на недолгое обмирщение земного царя. У кесаря это было лишь кажущимся введением нищеты в его существование. Он не становился в обносках на улице настоящим человеком из низов. «Воспитанный на багрянице жался к навозу» (Плач Иеремии, 4, 5), но это была маска.
Христос же самым наиреальнейшим образом воспринял в Своё Божество нашу человеческую природу, нашу нищету перед Ним. «Снисхождение Божие на землю и вселение Его в тварное существо должно быть признано никак не меньшим, если не большим, актом любви Божией, чем творение мира» (Архимандрит Киприан, «Антропология св. Григория Паламы», Париж, 1959).
Из любви к Своему падшему созданию Царь Небесный превратился в дальнего потомка иудейского царя Давида. Именно как сына Давидова Его встречали накануне Пасхи в Иерусалиме. Всеобщее возбуждение народа, накаленное пророчествами о близком пришествии Мессии, который освободит страну от римских оккупантов и даст евреям возможность самим оккупировать весь мир (к тому же подогретое слухами о том, как накануне Христос воскресил из мёртвых праведного Лазаря, что особенно убеждало в могуществе сына Давидова), разрядилось в своего рода политическую манифестацию, когда Христос въехал в столицу. Горланящие толпы горожан с зелёными ветками в руках радостно приветствовали Его. «Иудеи», – писал св. Иоанн Златоуст, – «сегодня метают под ноги Спасителя свои одежды, а завтра будут делить Его ризы». Чем вся эта ликующая публика была лучше дикарей, у которых процветал обычай назначать царя на один день? Наряжали избранника в царское платье, сажали на трон, поклонялись ему, выполняли любое повеление, а к вечеру убивали!
Почему Христос для входа в Иерусалим облюбовал молодого осла? Ведь, если Его принимали за царя, Ему приличествовало бы восседать на породистом жеребце или выситься на колеснице. Царь на осле! Не сквозит ли здесь ирония Небесного Царя не только над величием земных владык, но и над иллюзиями толпы по поводу той роли, которую Христос должен был играть в лазурных грёзах иудеев по поводу их глобального благополучия на земле?
В древности на Руси в Вербное воскресенье Патриарх, символизируя собою Христа, ехал из Кремля по Москве на осле, и вёл это подъярёмное животное под уздцы благочестивый русский царь. Государь явно демонстрировал своё смирение перед Богом. Он помогал Патриарху держаться она спине осла. Вся сцена дышала духом любовного сотрудничества, соработничества Церкви и государства. Двадцатый век, однако, схватил под узцы не осленка, привязанного к виноградной лозе, а саму Церковь, омыв одежды свои в крови грозда (Быт. 49, 11) убийством хозяина земли русской.
Но каждою весной «разламывая лёд, гробовым не смущаясь тесом, Русь Пасхою плывёт разливом тысячеголосым»!
Аминь.
Анафема
Может ли глава Русской Православной Церкви отвергать Иисуса Христа, хулить Богородицу и всех святых?
Хлынула в 15-ом веке на Русь пагуба, что вошла в историю под названием «ересь жидовствующих». Зачервилась она тайно в Новгороде под влиянием хитроумных речей оборотистого еврея, выходца из Литвы; подчинила себе неглупых, вроде, священников, переползла в Москву и там так окопалась, что в числе её подпольных споборников оказались митрополит и правительство. Сам государь строил глазки сектантам.
Русские в то время были не очень сильны в богословии. Чем оболванили новгородцев и москвичей пропагандисты, замаскированные под христиан?
Тем, что Господь, мол, един, а не троичен; Христос ещё не родился, а только родится; Христос никакой не Бог, а лишь человек; паче всего необходимо соблюдать закон Моисея, вплоть до обрезания; Творец мог бы спасти людей без того, чтобы посылать на землю Своего Сына, прибегнув, например, к помощи ангелов; поклоняться иконам нельзя и т.п.
Отступники опирались на Ветхий Завет, астрологию и, вероятно, на чернокнижество. На полуграмотную Русь доводы еретиков, отрицающих христианство (где исподтишка, где открыто) действовали неотразимо. Смотришь в то время, и кажется, будто там распоясался научно-казарменный атеизм двадцатого века!
Первоиерарх лишал Причастия, отлучал мирян, извергал батюшек из духовного сана, сажал руками великого князя в острог тех, кто, чуя неладное, упрекал Святителя в неправославии. Жидовствующие вожделели спалить христианство дотла и засеять его место в душе великоросса солью безверия, дабы никогда ничто похожее на религию распятой Истины впредь на Руси не пустило росток. Но по завету соли, которую человек в знак союза с Богом ещё в ветхозаветную эпоху приносил Господу с караваем свежеиспечённого хлеба в храм, сама соль, употребляемая врагами веры для уничтожения града Божия, превращалась из орудия греха в светоносную силу внутри Церкви, и всякий христианин, чувствуя в себе хотя бы крупицу сей соли, уже был не застывшим от ужаса соляным столпом, как Лотова жена, но осоленным огнём Божьей благодати воином во Христе!
Гнусной, почти тридцатилетней попытке отравить на Руси колодец духовной жизни противостал монастырский страж, игумен Иосиф Волоцкий, блестящий ум, литературный талант, эрудит той мутной эпохи. В книге «Просветитель» он обрушил на жидовствующих такой гнев, что до сих пор вызывает оскомину у детей, чьи отцы ели кислый виноград. На церковном соборе 1504 г. игумен, не хуже Блаженного Августина, потребовал сжечь и перевешать еретиков! Митрополита Московского и всея Руси свели с кафедры Первоиерарха, многих темнил заточили, иные из них покаялись, однако Иосиф, не веря в искренность христопродавцев, продолжал настаивать на их смертной казни, как бы иллюстрируя своим запалом, что кто утверждает, будто святые совсем безгрешны, того правила канонические строго осуждают.
Заволжские старцы, окормляемые преподобным Нилом Сорским на севере страны, в Кирилло-Белозерском и Ферапотновом монастырях, памятуя неустанно о милосердии Божием, смягчали преследование жидовствующих, давали им убежища в своих скитах. Они же стали противниками монастырских владений, что было на руку великому князю, чей государственный и личный интерес к церковным землям перечил взглядам Иосифа Волоцкого. Его монастырь порой содержал за свой счёт до семи тысяч нищих. Собор 1504 г. ответил князю и заволжцам: «Стяжания Церковные – Божия суть стяжания», собственность Господня навеки благоприятна и похвальна, неотчуждаема от Церкви… Государь всю жизнь дулся на преподобного Иосифа, лишь в конце дней своих выразил сожаление о симпатиях к жидовствующим.
В память о победе над иконоборцами (а игумен Иосиф мастерски отстаивал оспариваемые еретиками изображения Пресвятой Троицы, воздавая высокую похвалу религиозному искусству Андрея Рублёва) ещё на 7-ом Вселенском соборе был установлен праздник Торжества Православия. Сей чин совершается в первое воскресенье Великого Поста. Раньше он сочетался с обрядом анафемствования под колокольный звон. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема да будет», – провозглашает ап. Павел. «Да будет он жертвой дьявола, да не будет ему никогда спасения», – подхватывает св. Иоанн Златоуст.
За что изгоняли из Церкви, не позволяли участвовать ни в Таинствах, ни в молитвах, не разрешали жить в одном доме с верными и сидеть с ними за одним столом, теряли честь христианского погребения? Анафема – после многочисленных увещева-ний – преследовала тех, кто отрицал бытие Божие, ругал приснодевство Богородицы, отметал вочеловечение Спасителя, бессмертие души, уничтожал иконы, плодил ереси и расколы, отвергал Таинства…
Всем гонителям Православия в наши дни – анафема!
Всем за веру убиенным – Вечная память!
Всем защитникам Православия – многая лета!
Аминь.
Силы небесные
Поскольку ангелы не стучат подкованными сапогами по обшивке космических кораблей, летающих вокруг Земли, люди окончательно успокоились и решили, что ангелов вообще нет.
Но «когда стихает шум жизни и умолкают её нестройные голоса, когда душа омывается тишиной и остаётся наедине с Богом, когда она исполняется светом и озарятся лучами бессмертия – тогда чувствует она над собой склонившееся с невыразимой любовью существо такое любящее, такое верное, такое родное, такое нежное, такое тихое, такое кроткое, такое ласковое, такое светлое, что радость, мир, блаженство, неведомые на земле, закипают в душе. Она чувствует тогда своё неодиночество, и вся устремляется навстречу неведомому и близкому другу… Этот друг, Богом данный и созданный для человека, есть его Ангел-хранитель, всегда бдящий над ним, живущий с ним одной жизнью» (прот. Сергий Булгаков).
Как нет подлинной религии без Бога, так нет её и без ангелов. Силы бесплотные созданы до сотворения Вселенной. Небо первых строк Библии, по учению отцов Церкви и таких современных богословов, как Владимир Лосский, это беспредельность духовных миров, бесчисленные ангельские сферы. Небо являет земле образец иерархии, отсутствие хаоса, наличие строгого порядка. Ангельская иерархия трёхступенчата во славу Пресвятой Троицы. Внутри каждой ступени три чина. На первой стоят: серафимы, херувимы, престолы. На второй: господства, силы, власти. На третьей: начальства, архангелы, ангелы.
Ангелы – соучастники Божьего промысла, пребывают в непрестанном молитвенном общении с триипостасным Богом, будучи служебными духами, исполнителями судов Божьих над праведными и нечестивыми. Всё пространство Библии исчерчено полётом ангелов. Они приветствовали Авраама у дуба Мамврийского, являлись царю Давиду, пророку Илии, лежавшему у можжевелового куста, Даниилу во рву львином, Преблагословенной Деве Марии; пернатые небожители служили Христу в пустыне, на горе Фавор и в Гефсиманском саду: они первыми возвестили о восстании Христа из гроба; всячески поддерживали апостолов в темницах. Церковь верует: голос Ангела-хранителя слышен смертному в тот час, когда душа распрягается от тела, и Господень Заступник ведёт за нас брань с духами злобы поднебесной.
Ангел, точно человек, существо духовное, наделённое свободой воли, даром ума и слова. Он бессмертен и бесплотен, как душа человека. Библия называет ангелов «Сынами Божиими», но нигде в Ветхом и Новом Завете не сказано, что силы небесные сотворены по образу и подобию Божию, как человек. О превосходстве человека над миром ангелов свидетельствует св. Григорий Палама, чью память Церковь чтит дважды в году: на второй неделе Великого Поста, а также накануне торжества Собора архистратига Михаила. И хотя Церковь именует Второе Лице Пресвятой Троицы Ангелом Великого Совета, не забудем, что Христос – Богочеловек, а не Богоангел.
Хвала и служение Богу на небе и на земле нередко сопряжены с пренебрежением и ненавистью к Творцу. Самый прекрасный Ангел Денница, чадо нежной зари, возымел жажду стать не дубликатом Бога, а ещё выше, но превратился в затасканную карикатуру на Пресвятую Троицу. И так бывает всегда, когда родич ангела человек, отпадая от Бога, из самых лучших намерений мостит себе дорогу в ад. Дьявол «властвует в веке этом, ему повинуются все, у него больше слуг, чем у Бога, и ему охотнее повинуются, нежели Богу, исключения составляют немногие, и всё это происходит от нашего нерадения и беспечности», – с горечью констатирует св. Иоанн Златоуст. Парадоксально, но сатана тем не менее служит Богу, как бы предохраняя добро от затхлости, гниения, ибо побуждает нас быть постоянно на страже вместе с воеводой небесных полков архистратигом Михаилом, с которым нам уготовано судить падших ангелов.
Издревле на иконах архангел Михаил попирает ногами Люцифера, держа в левой руке зелёную финиковую ветку, а в правой – копьё с белой хоругвью, где вышит красный крест. Белый цвет хоругви знаменует святость и чистоту, красный крест символизирует борьбу с царством мрака, греха, болезни. Соратник архангела Михаила Уриил сжимает в крепкой длани пламенеющий меч. Другой участник ангельского собора Рафаил подносит нам сосуд с лекарством, держа за руку библейского героя Товию, который по совету Рафиила поймал в реке рыбу, из чьей печени он сделал нечто похожее на современную дымовую шашку для отпугивания нечистых и лукавых сил. Споборник архистратига Михаила Салафиил – знаток шифра наших страданий, искренний молитвенник за нас, грешных, потому и изображается на иконах с руками, прижатыми к груди, лицо и очи опущены долу. Их друг Варахиил, будто небесный садовник, желающий украсить всю землю цветами, несёт нам ворох свежесрезанных белых роз.
Несколько особняком предстаёт ветеран ангельской гвардии Гавриил. К Пресвятой Деве Марии он, не хуже галантного кавалера является с райским букетом, но порой мы с философским изумлением замечаем, что на иконах сей ангел запечатлён с зеркалом в деснице или, словно древнегреческий любомудр Диоген, с фонарём, где горит свеча.
Диоген ходил с таким фонарём днём по улицам и говорил прохожим: «Ищу человека!» Не вопрошает ли м нас небесный благовестник, как бы держа перед нами зеркало: «Вглядитесь в себя, где ваши образ и подобие Божии?» Когда мы теряем их, навстречу нам спешит архангел Иегудиил. А в руке у него казачья нагайка для укрощения наших грехов.
Аминь.
«Галчонком глянет рождество»
Когда смотрим на звёздное небо, мы восхищаемся не только красотой ночного зрелища; нас порой пугает бесконечность распахнутого пространства; человек не в силах постичь устройство мироздания, хотя кое-что знает о миллионах галактик, солнечных системах, расположении, составе и движении планет.
Нечто похожее происходит с нами в преддверии Рождества, едва начинает брезжить свет далёкой и такой близкой Вифлеемской звезды, указавшей богатым волхвам путь к убогим яслям Христа. Имеющие зуб на христианство высмеивали Вифлеемскую звезду как поэтическую вольность, нежную небылицу, прикрасу евангельского текста. Однако астрономы давно уже оповестили мир, что в эпоху царя Ирода в течение семидесяти дней наблюдалась вспышка яркой Новой звезды. «Эта Новая была видна до восхода солнца в восточной части неба невысоко над горизонтом, т.е. в соответствии с сообщением ап. Матфея» (журнал «Природа», №12, 1978).
Мы не можем, как бы ни старались, проникнуть в тайну воплощения Христа, лишь немного ведая о ней благодаря Священному Писанию, учению отцов Церкви. Что нам безусловно известно? Две тысячи лет назад на земле, в холодной пещере, среди соломы и сена, чудесным образом родился Малыш. Стояли ослы при яслях и своим тёплым дыханием вместе с Матерью согревали Ребёнка от стужи. Позднее Это Чадо назвали Спасителем. Каков Он? В чём Его высокая миссия, что, собственно, сделал, чтобы мир до сих пор помнил Его, поклонялся и молился Ему?
Перед нами два вопроса. На первый из них – о сущности Христа – Православие непоколебимо отвечает: Христос не только человек, но прежде всего Бог! Он – Второе Лицо Пресвятой Троицы, Единородный Сын Божий, который совлёк с Себя предвечную славу, обнищал и пришёл к нам не в блистании и мощи Создателя вселенной, а в скромном облике незаметного раба Римской империи, став одним из нас, во всём подобным нам, кроме одержимости грехом.
Во Христе две природы: Божественная и человеческая. Он не просто Бог или просто человек, но Богочеловек, в Нём неразрывно, неслиянно наличествуют две природы. Ни одна из них не диктаторствует, не подавляет другую. Точно так Божественная воля не терроризирует человеческую волю, не затмевает её, не отодвигает в тень. Когда тонко воображают, будто во Христе Бог безраздельно командует человеком, возникает параноидальная ересь, преодолённая на пятом и шестом Вселенских соборах, но которая по сей день змеится под именем монофизитства или монофелитства, и встречаем мы её, например, у современных армян.
Второй вопрос: что никогда не померкнет в деле Христа?
То, что Вседержитель основал Свою Церковь. Для чего? Нашего ради спасения. В чём оно? В никогда не насыщаемом стремлении к соединению с Богом, в без конца и без края любви к Нему, в постоянной, хотя и прерываемой, жажде быть во всём совершенными, как совершенен Отец Небесный. Где утоляется, в первую очередь, этот порыв? Только в Церкви. Церковь по преимуществу – не стены собрания, не общество, не организация, а организм, Тело Христово. Где в земных условиях пребывает Тело Господне? В Таинстве Причастия. Когда во время литургии по вере и молитвам пастыря и паствы Святый Дух нисходит на предложенные в жертву Богу дары, незримо, тайно свершается пресуществление, претворение, преображение обыкновенных хлеба и вина в подлинные пречистые Тело и Кровь Господни для насыщения верных.
Таинство Причастия свершается независимо от того, в какой ритуально пышной, соборно-кафедральной, или довольно скромной, сельской церкви идёт обедня. Апостолы, первые члены первой Церкви, причастились на Тайной Вечере в самой заурядной горнице обыкновенного жилья. Всякая каморка освящается присутствием Христа. Не место, даже давно намоленное, делает Церковь святою, а Церковь любую – новую или старую, неважно – пядь земли, закут или простор освещает Своим водворением в них. Вот почему русские эмигранты двадцатого века молились в изгнании с тем же, а, может, и большим жаром, что и на Родине, не в величественных храмах, которых у них не было на чужбине, а в наспех переоборудованных под церкви гаражах, подвалах, сараях, о чём с восторгом вспоминала Мария Цветаева.
Когда поздним вечером мы выходим на тихую безлюдную улицу, подобно библейскому праотцу, что выходил в поле поразмыслить, над нами сияют, вероятно, те самые звёзды, создание которых в первый же миг их появления вызвало восхваление Господа великим гласом всех ангелов. И, всматриваясь пристально в небесную высь, как бы разыскивая в преддверии Рождества яркую звезду над вифлеемским вертепом, мы, словно снова, взволнованно слышим в своём сердце благодатное пение множества ангелов, прославляющих рождающегося Христа!
Аминь.
Костёр на берегу
Во Имя Господа, аминь.
Не припомним ли, братие, рань того древнего утра?
– Дети! – сказал Христос. – Есть ли у вас пища?
Так Евангелие благовествует о достойном осмысления событии на озере Тивериадском, когда сподвижники пророка из Назарета собрались порыбачить ночью, сели в лодку и неподалёку от берега закинули в воду сеть.
Души их были затянуты илом глубокой скорби. Казалось, после казни на кресте Христос никогда не существовал в этом мире…
Рассеянно, спустя рукава, апостолы пытались наловить рыбы, но невод пустел, а ночь была не ночь, а космическая тьма, мрак, словно в преисподней.
К рассвету раздражённые, усталые, голодные, продрогнув до костей, подняли глаза и заметили на суше, до которой около двухсот локтей, незнакомого мужчину. Тот поинтересовался, вызвав досаду, поймали ли что?
– Нет, – недовольно откликнулась ладья.
Тогда неизвестный (сегодня его сочли бы за ведущего специалиста научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии) точно указал неудачникам место скопления морских животных:
– Бросьте трал с правого борта!
Нехотя послушались и, едва стали вытаскивать тяжёлую добычу, наперсник Наставника Иоанн, затрепетав, шепнул в смятении сообщнику Петру:



