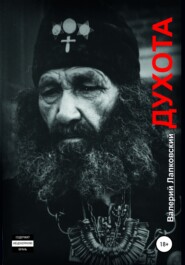 Полная версия
Полная версияДухота
– Это Господь!
Пётр, ликуя от радости, прыгнул в холодные волны, быстро, насколько мог, поплыл к берегу, где Спаситель разложил костёр, испёк рыбу, приготовил хлеб, чтобы Его друзья, причалив, обсохли от ночной сырости, обогрелись, отдохнули, пообедали.
Господь сжалился над ними, как над народом, которого и раньше кормил рыбой и хлебом, подтверждая, что и после Голгофы остаётся с нами до скончания века, что в оледенелый от греха мир несёт очищающий огонь.
– Дети! – говорит своим последователям Христос. Это голос пламенной любви, не погашенной крестной смертью. Это усыновление нас Богу чрез Иисуса Христа.
Апостолы в шоке: Бог умер… Но Пасха, Пасха – это словно мощный электрический разряд, посланный Свыше в остановившееся на Голгофе сердце! И хотя Христос после ужасной разлуки является им уже в третий раз, ученики никак не могут поверить в Непостижимое, утолить себя в скорби тем, чем Бог утешает их (2 Кор. 1, 4), воочию убеждая: Погребённый в каменном гробе ожил, молод и прекрасен. Благоговение и страх – ведь между Творцом и тварью бездна – стреножат уста людей. А Он берёт хлеб, который одушевит их язык (Зах. 9, 17), помолившись, преломив его пречистыми и непорочными руками, преподаёт им, как делал на Тайной вечере, освящая Причастием во оставление грехов и в жизнь вечную.
Это больше, чем Тайная вечеря!
На брегу Тивериады, закоулке вселенной, свершается не какая-нибудь путающаяся в ногах вечности всемирно-историческая революция, осуществляемая ради достижения посюсторонне безбожной свободы, а то, что превыше всего: встреча скудельного сосуда с Воскресшим Богом, первенцем свободы среди мёртвых – безусловная истина, предваряющая общее воскрешение, егда «отдаст земля тех, которые молчаливо в ней обитают, а хранилища отдадут вверенные им души» (3 Ездры, 7, 32).
Тёмная ночь, рассвет у костра… Есть ли у нас пища, что укрепляет сердце человека (Пс. 103, 15)?
Христос – Хлеб нашей жизни, Свет, Тепло, Чудо!
Пою, благословляю Тя, подающего Своим Воскресением миру велию милость!
Часть третья
I
Сплету-ка вам с оглядкой на Апулея историю о похождениях повесы и на радость какому-нибудь зоилу начну так:
утро ударами церковного колокола щупает пульс уезда…
Этот старый почтенный колокол я разыскал у знакомых в Курске. Щека его пробита насквозь пулей или осколком снаряда, но горло уцелело, и голос хорош.
Спрятав кампан, точно кота в мешок, и чудом, контрабандой протащив через кусачую украинскую таможню, водрузил на звонницу небольшого храма близ своего жилья.
Хибарку мою раньше некто эксплуатировал на садово-огородном пятачке в качестве каменного сарая с дырявой крышей и земледельческим инвентарём. За гроши выкупив развалюху и отремонтировав её, вылепил по лекалам отшельника келью с кухней и спаленкой, которая одновременно служит мне шикарным кабинетом.
Хижина ютится на обочине курортного города у лукоморья, среди дачных халабуд, подле погоста, захудалого, как то кладбище, откуда Стерн хворостиной гонял гусей.
Неподалёку от моего крова прозябает в неказистом строении пожилая виолончелистка. Приезжает весной из Москвы и с мая по сентябрь репетирует на грядках, подсказывая помидорам и огурцам как правильно взять нужную ноту в партитуре природы.
Левая нога у музыкантши вечно перебинтована серой марлей. Ходит артистка в неописуемом тряпье, с намёком на войлочную шляпу в копне нечесаных седых волос. Хозяйку учтиво сопровождает чёрный барбос по кличке «Чарли». Каждое утро дама с собачкой вежливо здоровается со мной, торопясь с пустой стеклянной банкой за козьим молоком к Сашке, чья благоухающая навозом штаб-квартира в двухстах шагах от нас.
Сашка – отставник; хлебнул лиха на войне в Афганистане. На праздник Победы, 9 мая, надевает чистую гимнастёрку с орденом Красной звезды. В будни возится по хозяйству в замызганной робе. В июне раздет до пояса, привык к солнечному пеклу с той поры, когда бросал на раскалённую броню боевой машины подушку, отправляясь бить душманов.
У Сашки крупное стадо серо-белых, рыжеватых, грязных коз; полно кур, собак, две кошки. У рогатых, чья прабабка Амалфея выкормила младенца Зевса, крутые, навыкате, очи, очень внимательные, если прихожу кормить их с руки корками дынь. С земли эти аристократки даже кочерыжку капусты подбирать не станут.
На изгороди из колючей проволоки вокруг своего бивуака бывший десантник сушит шкуры зарезанных животных; приторговывает среди садоводов мясом, яйцами, самодельным вином… Мудро усталый Пирон, пишет Ницше, продавал на рынке поросят. Сократ, уведомляет Платон, не вылезал с базара… Так что у Сашки, от которого ушла жена, вполне спокойная философская жизнь.
Под вечер, когда дикая летняя жара немного отступает, сижу в парусиновом креслице во дворе под сенью виноградных листьев, размышляю о дочитанной наконец книге, о сбивчиво прослушанной по телеканалу непонятной симфонии Брукнера… Поглядываю на изнемогающие весь день от зноя цветы, получившие по моей милости глоток воды из ведра… Чую блеянье Сашкиного стада. Подхожу к калитке и козыряю заросшему щетиной усталому соседу; командирски покрикивая, он эвакуирует с пастбища бодрую роту прожорливых коз.
Вокруг моего пристанища сиротеют полузаброшенные участки с высохшими деревьями. Один из них с ветхим домом якобы присмотрел и хочет по дешёвке приобрести представитель высших кругов нашего захолустья – президент группы компаний «Шикарный клуб». В центре города у этого толстосума трёхэтажный особняк, заваленный лягушками из поролона, гипса, дерева, металла. Сей растиражированный символ денежного богатства почитает его супруга, чуть похожая на семипудовую купчиху, в которую давненько мечтает переселиться из романа Достоевского проказник чёрт. Друзья, знакомые, просто приятельницы, прислуга, зная о пристрастии хозяйки, преподносят ей в день рождения, на Новый год, в праздник клиторного пролетариата 8 марта магазинные игрушки в виде всевозможных амфибий. Обитель кишит муляжами земноводных разного формата, от напёрстка до крупной кастрюли, оккупировавшими парадные комнаты, коллекционную мебель, напольные вазы из Китая, гаражи, сторожку, бассейн. Скопище квакух, кажется, перебралось сюда из Ветхого Завета, где нашествием полчищ их родственниц, отвратительных жаб, позалезавших в печи, квашни, спальни, Господь рассчитывал вразумить жестокого фараона, не желавшего отпустить в землю обетованную зело расплодившихся в его стране бедных евреев.
Покидая край пирамид, иудеи тихо обобрали египтян, прихватив серебряные, золотые вещи и одежды из парчи.
Премудрые раввины, неравнодушные к финансовому благополучию богоизбранного народца, тем не менее считают знаком преуспеяния Израиля не мещанский символ лягушки, а купину неопалимую – горящий, но не сгорающий куст, откуда Господь Саваоф вещал пророку Моисею на склоне горы в Палестине.
Неутомимые потомки Авраама – племя пылающее, однако не потухающее от неприязни к нему других наций.
Купина ядовита. Цветы и плоды её вызывают, если прикоснуться, химический ожог кожи. Волдыри лопаются, язвы плохо заживают. Лечение длительно, болезненно: нарывы, температура, слабость… Остаются рубцы, пигментные пятна…
Живёт это знаменитое растеньице и в Крыму, где сионисты грезили после войны обрести рай на пару с Гитлером, который мечтал о том же, но только для арийцев.
Близкое общение с купиной, как и с «царевной-лягушкой» (начертавшей на двери опочивальни мужа красным фломастером на квадратике белой бумаги титул: «Царь») повторяю, оставляет, правда, не у всех, следы ожога.
– Жаба гальванизированная! – ругается Сашка. Нанялся было в охранники пенатов президента «Шикарного клуба» да надерзил господыне и мигом под зад вылетел за ворота.
Сашка родился на Кавказе, как и я.
Где? Конкретно.
Клянусь Прометем, в Огнях! Среди острых скал и гордых вспыльчивых горцев.
Огни – село в Дербенте; туда перед наступлением немцев в 41 году дед, партработник, вывез из Крыма нашу семью. Сюда был демобилизован с фронта после тяжёлого ранения пехотный офицер, мой будущий отец.
Сейчас Огни, по слухам, большой город, очаг дагестанских банд, куда мотыльком летит моё сердце.
Во мне и в Сашке ни капли кавказской крови.
Но внутри себя, всю жизнь, чую как бы огонь, зажжённый именем места моего появления на свет.
Фамилия моего деда по матери: Москаленко. Москаль значит русский, солдат. Здесь пахнет порохом, огнём. Следовательно, предки наши из русской рати, осевшей в Малороссии.
Присматриваясь к генетическим корням, со смятением в душе обнаруживаю, что меня с пелёнок опекает персонал… Нового Завета: дед Гаврил Семёнович, бабушка Мария, отец Иван, мать Лидия, то бишь сплошь тезоименитости – архистратиг Божий Гавриил, старец Симеон Богоприимец, Мария Магдалина, Иоанн Креститель, благочестивая Лидия, удружившая апостолу Павлу!.. Получается, я от утробы родительницы предназначен к тому, чтобы хоть на излёте лет выстроить храм Имени Божию, ну… какую-нибудь махонькую церковь, где никто, никакая тварь не сможет мешать мне служить.
Но где сей «соблазн для иудеев, безумие для греков» будет находиться?.. Да, вот тут, в южном закоулке… Поселюсь в предместье под стать обитателю херонейского закута чтимого Апулеем Плутарху, который вкрапливал в свои сочинения, как иной проповедник в свои диатрибы фрагменты собственной жизни: кем был его дед, его близкие друзья, отчего ему на хватало хорошей библиотеки, да как утешить супругу… «Тихо буду проводить дни жизни моей, помня горесть души своей».
II
Сам рыл траншеи под фундамент, заказывал узкие оконные рамы, двери с закруглённой макушкой, привозил на самосвалах песок, щебень, цемент; бранил нерадивых штукатуров; влезал в долги; покупал краски, доски, кафель; шпаклевал, белил… Думал: кто захочет – пусть присоединится. Но сознательным элементам трудящихся масс, семенящим на огороды, не до Христа: пять-шесть старушенций стекаются на литургию.
– Это вы зажгли лампаду в углу? – спрашивает Достоевский, когда перечитываю «Бесы».
– Я зажёг.
– Кто вас просил? – бурчит судьба.
Да, эта та самая судьба, что (отвоевав, по усмешке Канта, при всеобщей снисходительности право на существование вне времени и пространства; перепугав всех искусствоведов роковым стуком первых тактов Пятой симфонии Бетховена) влечёт меня вспять и разыскивает забившегося в образцово-показательный интернат для дрессировки детей в ленинско-сталинском духе.
Противные воспиталки имели дурную манеру наказывать провинившихся питомцев двухчасовым стоянием на ногах. Возразить им школяр мог только одним способом: со всей злостью, молча, впиться глазами в лицо мучительницы, бычиться на училку, пока та, не выдержав, закричит:
– А взгляд! Вы поглядите, как смотрит!
И, кажется, готова гитлеровским оккупантом расстрелять любого, кто хоть раз воззрит на неё искоса.
Попрекая лентяев (жрут, бесстыжие, казённый хлеб!), наставники довели подопечных до того, что разгильдяи сговорились сочинить жалобу в горотдел народного образования.
Директор приюта Трофим Александрович выдернул меня с урока в кабинет и, сидя, задрал ногу в крупном ботинке на уровень моего лица:
– Раздавлю гада! Кто накатал донос в гороно?!
Каторжанам при царе брили половину черепа, а ему шибко нравилось стричь напроказившему питомцу башку наголо. После тщательного расследования дела по жалобе, которая даже не была написана, но как умысел на свержение государственного строя подлежала безжалостному наказанию, дидаскал повелел мне предстать перед ним дочиста лысым.
Пансионер обычно со стыдом и злостью подставлял голову палачу его причёски, однако в данном случае все пятнадцать одноклассников непонятно почему, дабы показать, что им не страшен серый волк, дружно сели под машинку недалёкого парикмахера, который, не зная в чём сыр-бор, но, полагая, что таков вердикт директора, придя из городской цирюльни в школу, куда его приглашали раз в месяц, охотно обкромсал бунтарей.
Скандал!
Аборигены впали в панику, заметив, что в закрытом учебном заведении детей стригут «под ноль»: эпидемия, чума!
Свершив акт гражданского мужества, отроки объединились в «Союз лысых», сфотографировались всей группой на память и по приказу разбушевавшегося поклонника педагога-чекиста Макаренко (крупный портрет маслом в вестибюле) драили утром и вечером туалеты на трёх этажах. Их бросили на уборку территории вокруг зданий, лишили просмотра по субботам художественного кинофильма в актовом зале. На линейках, уроках, в стенгазетах честили в хвост и в гриву не только Трофим, учихи, но и угодливый старшеклассник Славка Соколов, избранный по рекомендации директора председателем Совета коллектива. Ненавистный нам Совет, состоящий из однокашников, мы обзывали «звеном фашистов». Трофим приговорил и Совет утвердил, чтобы мы – пока не покаемся – весь год ходили лысыми.
– Что за махновский выезд?! – взъярился педант, узнав, что я из воскресного увольнения домой прикатил к вратам интерната на тачанке с пулемётом. Тачанкой, что запылила завистью буркалы его помощнику, доложившему о моей «выходке», оказалось такси, которым оба по соображениям менторской скромности почти никогда не пользовались.
– Зайдите ко мне! – строго одёрнул пестун миловидную библиотекаршу, присудившую мне в жюри новогоднего маскарада третью премию за костюм «Стиляга»: узкие брюки, галстук с обезьяной, толстенная подошва туфель – окарикатуренное попрание коммунистических приличий, мода гнилого Запада!
– Раздавлю гада!
Похожий окрик услышал двадцатью годами позже в женском монастыре, куда пригласил знакомый настоятель. Сразу после встречи он повёз меня показать налаженное его стараниями сельское хозяйство.
– Девки, девки! – выйдя из машины, вздымая руки, кричал монах пасущимся в степи лошадям.
– Кто позволил вам ущемлять права животных? – возмутилась, присутствуя при этом, дама из Москвы (рак сожрал у неё левую грудь, будто у древней амазонки, чьи перси удалили для удобной стрельбы из лука); приехала в святую обитель подлечить здоровье молитвой и постом.
– Коим образом я ущемляю их конституционные права? – улыбка на физиономии инока повисла торбой с овсом на морде коня.
– Таким обращением с копытными вы унижаете моё и лошадиное чувство достоинства!
– Не к лицу старой кобыле хвостом вертеть, – хмыкнул про себя постриженник в ангельский образ и продолжил звать далёкий табунок.
Породистые самки Пегаса, грациозно перебирая точёными ногами, лениво приблизились к задрипанной автомашине и с осторожным любопытством уставились на людей, раздумывая, не поболтать ли с ними на манер говорливой лошади из девятнадцатой главы «Илиады». Подошла и шоколадного цвета верблюдица Аллаха, власяницу из шерсти её предков носил Иоанн Креститель.
По дороге назад, в «обуреваемых тихое пристанище», настоятель (величать его «настоятелем», вроде, нельзя, ибо в монастырском улье он лишь рабочая пчела, завхоз и духовник на богослужении) открыл: коней выращивают на продажу ради материальных нужд обители, а верблюдицу монашки пропускают через игольное ушко: вяжут тёплые носки, варежки, шарфы, пояса.
– А рейтузы почему не шьёте? – озадачила недавно прибывшая из другого монастыря новенькая послушница, зябнущая и в Петровки.
– Ты почему в трусах? – осадила её старшая черноризница. – У нас не принято носить их под облачением.
– Владыко, – не терпелось сей остепенившейся Магдалине спросить у гостившего в лавре проездом статного архиерея, – много у вас было женщин?
– А у вас мужчин? –отпарировал бы пастырь.
– Да, Ваше Преосвященство, раньше вы были энергичнее! – заметил после всенощного бдения некий богомолец.
– Это тебе твоя жена сказала? – хотел ответить святитель, но вовремя положил на уста свои хранило.
III
Отобедав, отдыхаем в трапезной.
Игумен, вычёсывая пятернёй, привыкшей к хомуту, скудную бородёнку, роняет почтенные седины на истоптанный ковёр. Монах ведёт строго подвижническую жизнь, члены его тела едва не омертвели от беспрестанных земных поклонов, ночных бдений, непрестанной молитвы; шкура на локтях отвердела до такой степени, что жёсткостью почти не отличается от загрубелых колен верблюдицы, пасомой в степных угодьях монастыря.
Перед ним насупились двое мальчишек, пойманных на месте преступления – без спросу драли виноград.
– Мошонку вырву! – гаркает духовный наставник, не стесняясь ни меня, ни почитательницы святых Фрола и Лавра, критиковавшей его обращение с лошадьми.
С испугу один воришка плачет, другой угрюмо молчит, как юный спартанец, который по команде наставника: «Смирно!», застыл с лисёнком за пазухой и даже не пошевелился, когда зверёныш прогрыз у него в животе дырку… Не так ли я стоял без слов у горящей печи, потупив глаза в пол, перед неожиданно приехавшим после долгого отсутствия и пытавшимся заговорить со мной лысеющим отцом, не чувствуя, что на спине моей тлеет ковбойка от раскалённой плиты?
Я едва не вздрогнул, расслышав в угрозе игумена давнюю осевшую внутри меня со школьных лет реплику:
– Раздавлю гада!
Если бы я знал тогда, что вздыбленная перед моим лицом серая подошва директора интерната окажется всего-навсего плоской небольшой стелой на его могиле близ моего жилища, на кладбище, где прогуливаясь («прогуливаюсь, следовательно, существую»), замечаю, как малышка берёт на ладошки горячее сердце бабушки, стирая влажной ветошью пыль с нагретого солнцем надгробья из базальта!
– История действует основательно и проходит через множество фазисов, когда уносит на тот свет устаревшую форму жизни, – слышу неподалёку от прогулочной тропы нечто в этом роде от барышни из ритуальной конторы; тараторит перед кучкой хмурых людей у гроба на скособоченных табуретах подле незарытой ямы.
Бумажный венчик из церковной лавки на лбу покойника смахивает на акцизную марку на бутылке выпитой водки.
– Почему таков ход истории? – шпарит без остановки тыквенная грудь на спичечных конечностях, имитируя свирепую тантрическую деву, чья нога в позе танца поднята вверх и согнута на уровне бедра, а шея вся в ожерелье из человеческих черепов. – Это нужно, учит Карл Маркс, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым. Родичи, прощайтесь!
Нос у жмурика выглядит странно…
Шёпотом:
– Что с ним?
– Ночью поставили в сарай… Запах на всю квартиру… Крысы отгрызли, – отрыгивает супруга (конечно, не она, а колдунья, ручается Апулей, отъела у мертвеца часть лица)…
Гляжу на сморщенную вдову… Я ещё тогда мальчишкой был… Во дворе нашего дома на квартире у Фроськи жила молодая чета… Мне были очень симпатичны стройный военный лётчик и его жена, прелестная учительница музыкальной школы. … Возвращаясь поздним вечером с аэродрома, муж попал в автомобильную катастрофу… Покоился на столе ещё без гроба, и губы ему проткнули обыкновенной швейной иглой, чтобы челюсть не отвисала.
Ночью в комнате горел свет, и – соседи гутарили – женщина легла рядом с трупом и обняла его.
А потом уехала в другой город, года два присылала приятельнице деньги для ухода за холмиком на кладбище и покупки цветов, может, похожих на те, что найдены в первозданном виде в усыпальнице на груди фараона, куда тысячелетия назад их возложила, осиротев, царица.
С представителями гетеры Флоры у меня загадочные отношения… Обнаружил это, снимая на зиму полутёмную комнату у вдовы, которая общалась с божеством в лице квартиранта не через созерцание собственного пупка на манер греческих монахов, а проделывая ту же процедуру через щель пониже.
На подоконнике арендованного мною жилья чах в глубоком одиночестве неизвестный цветок. Я не обращал на бедняжку ни малейшего внимания, хозяйка тоже, даже не поливала. Но в один прекрасный день, после месяца моего пребывания рядом, засохший, безуханный вдруг брызнул свежими лепестками, зардел застенчиво посреди января весенними красками, укоряя ревность вдовы!
Допустимо ли не верить Плотину, что у растений есть душа, как у земли и звёзд, или не верить моей матери, которая, безусловно, возразила бы Спинозе, утверждавшему, будто деревья не могут изъясняться на языке людей, моей матери, которая, видимо, не перечила бы Норберту Винеру в том, что ромашки и васильки обмениваются информацией, если поутру она будила меня:
– Сыночек, вставай… Акации под окном шумят, разговаривают!
IV
После драпанья из интерната попадаю в механический цех судоремонтной верфи, куда устроили учеником токаря. Профессия меня совершенно не интересует, но, поскольку для поступления в вуз требуют двухгодичный стаж на производстве, а также для поддержания штанов на хлеб насущный, ежедневно плетусь в грохочущий ад, где гудят станки, сыпется горячая металлическая стружка, полно мазута.
Увиливаю от работы под разными предлогами и, если есть возможность, забираюсь на крышу цеха, почитываю на солнышке (авось пригодится на экзаменах в университет) тщедушную брошюру Владимира Ильича, у которого, в отличие от царя Давида, автора ста пятидесяти псалмов, и комедиографа человеческой страды Бальзака, имевшего сто пятьдесят жилетов, творческий гений дорос до ста пятидесяти псевдонимов.
Потомственный дворянин клеймил в печати треокаянное правительство палача Николая Романова, гнавшее народ в дни Сретения, Воздвиженья, Покрова на заводы и фабрики, а, едва дорвался до власти, приказал: немедленно расстреливать всех, кто откажется ишачить в церковные праздники!
Я не хочу вкалывать ни в религиозные юбилеи, до которых мне нет никакого дела, ни в другие будни, предпочитая всем перспективам трудовых подвигов читальню на крыше, где застаёт меня, разыскивая, чумазый мастер. Не материт, как Чапаев Троцкого в телеграммах, а трошки смущённо протягивает трёшку, просит слетать в ближайший магазин.
Спешу за алкоголем, а по дороге только и мечтаю: «Москва, МГУ! Буду щеголять студентом, как молодой Лев Толстой, в синем фраке с бронзовыми пуговицами, позолоченная шпажонка на бедре!..» И невдомёк ещё, что носить жёлтую одежду, брить голову, просить милостыню в деревянную чашку на улицах, жить в полной чистоте и бедности (о чём мечтал и граф Толстой) не хуже диплома о высшем образовании.
V
С верфи меня турнули за прогулы, и угодил я в матросы на буксир «Вайгач», где верховодил флотяга Мухамедыч.
Утром уходим в море, под ногами ксилофонят металлические трапы, а с горы над городом машет вслед нам красной косынкой стройная башенка, где коптит «вечный огонь».
Вечером возвращаемся в порт. Боцман (нос крючком, хоть пальто вешай) голосом якоря, что с грохотом, огрызаясь, нехотя лезет в холодную воду, велит мне набрать ведро лежащей на палубе выловленной хамсы и двинуться вкупе с ним к дому капитана, почему-то сегодня не вышедшего в рейс.
Сгорая от стыда, волоку я, комильфо по внешности и манерам, через весь курорт поклажу с мелкой рыбой, стараясь не смотреть на местных щеголих. У порога начальника боцман хватает у меня ведро, даёт указание не опаздывать завтра на вахту и тискает кнопку звонка у двери.
Пулей мчу домой, надеясь быстро переодеться и, хоть с задержкой, успеть на танцы в клуб госторговли.
Подбегаю во дворе нашего дома к дяде Грише и двум его приятелям, обсуждающим, почему в Америке «царя» (по словам бабки) убили.
– Мой племянник! – представляет дядя. Один собеседник спрашивает:
– Ты что такой худой?
– Женщины! – отвечаю. Мужчины катятся от смеха.
– Дядя Гриша, позычь руб на танцы.
К балу в клубе рыбаков или в техникуме металлургов всегда скрупулёзно готовлюсь. Покупаю в «Военторге» туго накрахмаленные, белоснежные офицерские манжеты, теперь совершенно исчезнувшие из армейского обмундирования, и засовываю их под рукава чёрного пиджака, чтобы краешки были чуть-чуть франтовато видны. Никто на танцульках не придаёт этому ни грана внимания, ни плясуньи, ни их кавалеры (мерещится: во фраках и лайковых перчатках!), а без данного аксессуара я, денди с буксира, чувствую себя не в своей тарелке.
Привычка к джентельменскому уходу за своей внешностью зародилась во мне с младых ногтей, когда я, ученик 8 «А» класса образцовой школы-интерната, грянул на праздник в Дом пионеров с галстуком-бабочкой на шее. Надзирательница заведения не менее Трофима терпеть не могла враждебно-капиталистический… как это называется?.. А! Модус вивенди… Образ жизни!
Позвала в кабинет:
– Снимите бабочку.
Я вспыхнул, закапризничал, бабочку не тронул и, несмотря на посулу выгнать с вечера и пожаловаться в пансион, вернулся в зал, полный света и музыки, к девушке в зелёном платьице с крупными белыми пуговицами, похожими на чайные блюдца.
На другой день после марш-броска с ведром рыбёшки явился вовремя на буксир.
Корабельщики… прятались кто куда.
Капитан «наелся топоров с горчицей»!

