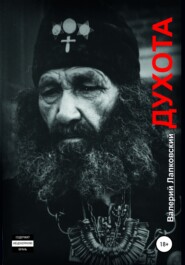 Полная версия
Полная версияДухота
Обряд в исламе довольно сух; таинства в нашем православном понимании вообще отсутствуют. Вместо крещения – обрезание, вместо венчания – женитьба. Бери хоть четыре жены, если прокормишь.
Наблюдаемые в христианских странах азартные игры, картёж, казино, публичные дома, порнография, стриптиз – весь западноевропейский смрад, вся теперешняя голливудщина исламом категорически отвергается. Но наркобизнес процветает и стремится к мировому господству именно из мусульманского региона, невольно рекламируя ислам как религию сатаны (по мнению таких оппонентов, как Вольтер, Давид Юм).
Догматика ислама слаба, мутна, радикально отличается от основ христианства. Коран считает Иисуса Христа не Вторым Лицом Пресвятой Троицы, а лишь посланником Аллаха, предтечей Магомета наряду с такими ветхозаветными персонажами, как Авраам, Иосиф, Моисей, Илия. Пятая сура вещает: «Неверны те, которые говорят, что Мессия, сын Марии, есть бог». Предание мусульман утверждает, будто Коран написан на небе и передан Магомету архангелом Гавриилом. Как мог подобный поклёп на Христа вручить Магомету архистратиг Гавриил, непонятно. Ведь не кто иной, как Гавриил, согласно Евангелию, благовествовал Деве Марии о рождении Сына от Духа Свята: «рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим» (от Луки, гл.1, ст35)! Не кроется ли в запрете для мусульман употреблять вино выпад против Божественной Крови Христа, Которой причащаются христиане?
Аллах, сказано в Коране, хитр. Хитрят и сегодня его почитатели, уверяя нас в тотальном миролюбии ислама. На самом же деле Коран гласит: «Когда пройдут священные месяцы, убивайте неверных, где бы вы их не нашли; хватайте их, тесните и нападайте…» (сура 9, ст. 5). Кого зачисляют в разряд неверных? Евреев и христиан, в первую очередь. «Неверный тот, кто говорит: бог третий из Троицы». «Не говорите: есть Троица. Перестаньте это делать». Коран вменяет каждому магометянину обязанность вести джихад – священную войну с инакомыслием, противниками Аллаха (сура 2, ст. 186, 212, 213). Может быть, рыцарям крестовых походов просто хотелось почитать древнегреческие рукописи, что сохранились в переводах у арабов, или им только мечталось пограбить богатый Восток? Так думают те, кто не допускает мысли, что Европа осмелилась бы встать на защиту поруганных исламистами в Иерусалиме христианских святынь.
Для нас Магомет даже не пророк. Его учение – эхо ересей, разбитых Православием в пух и прах. Магомет говорит о себе, что он только «плоть» (сура 8, ст. 110). Вероятно, это единственно правильная точка зрения. Он чает воскресения из мёртвых. Что ж, на Страшном суде всё станет на своё место. А пока, как свидетельствует одна исламская притча, хромой сидит на плечах слепого.
Аминь.
Триколор
Когда нашему взору предстаёт государственный флаг Российской монархии, мы видим стяг из трёх полос чёрно-золото-белого цвета. Ни одна из полос ни больше, ни меньше, хотя каждая отличается друг от друга. Они как бы равночестны, равнославны, неслиянны и в то же время нераздельны, составляя единое полотнище. Из всех тварных вещей это одно из лучших подобий Пресвятой Троицы, превосходное пособие для наглядного представления о Единосущем Триипостасном Боге. Как в Пресвятой Троице личными качествами трёх Божественных Лиц, их отличием друг от друга являются нерождённость (Отца), рождение (Сына), исхождение (Святаго Духа), так в российском монархическом триколоре три разных цвета как бы символизируют таинственную внутрибожественную жизнь. Догматически утверждая единосущие и равенство Трёх Лиц, Церковь понимает, что Господь пребывает вне числа и меры; наши представления о Нём укладываются в библейскую формулу: дни вечности, капли дождя и песок морей кто измерит?
Чёрный цвет монархического знамени будто говорит о запредельной небесной тьме, что простирается над землёй на огромной высоте. Эта ночь может быть лишь условно сравнима с тем мраком, которые есть тот слепящий свет, где обитает непостижимый Бог. Он открывает нам Себя через сияние Своего Единородного Сына, Ему же Имя на молитвенном языке Церкви – Солнце правды, Господь Иисус Христос. Солнце озаряет планету теплом золотого света. Золото не блестит, а мягко лучится, и в тот же миг непроницаемо; оно оседает как символ Христа на складках российского флага, а также на православных иконах, таких как, например, «Спас Златые власы», и других образах, где золото всегда знаменует небо и Божественную силу. Этот чистый беспримесный золотой цвет на штандарте самодержавия плавно переходит в не менее чистый белый цвет – знак Святаго Духа, который в виде белого голубя витал над Христом при Крещении в водах Иордана и в форме белого облака осенил Христа на горе Фавор, когда Сам Спаситель и Его одежды просияли для прозревших свидетелей чуда Преображения таким нестерпимо белым цветом, что они со страху, как пишут на иконах, попадали ниц.
Этот древний флаг, словно озарённый внутренним триипостасным светом, преобразовывал на протяжении столетий душу русского народа. И хотя порой и затмевался исторической мглой, именно через него россич во время крупных социальных потрясений соединялся с Богом и своей земной родиной. Этот стяг как бы выпрастывает нас из глубины российского чернозёма и тянет ввысь, к солнцу, из черноты греховности, к белому свету. Чрез наше имперское знамя мы своим сердцем одновременно видим и не видим Бога. Господь доступен нам сквозь Свои цветовые энергии, и в тот же миг мы не в состоянии постичь Его природу.
Другого флага, другого подлинного выражения, исповедования христианской веры в государственной атрибутике Русь святая не могла и не может иметь. Эти три одухотворённых цвета перекликаются с живописной гаммой русского герба. Главной московской эмблемой исстари были чёрный византийский орёл на золотом щите и св. Георгий Победоносец в белой (серебряной) ризе на белом коне. Под чёрным великокняжеским знаменем Дмитрия Донского Русь одолела татар.
Солнечное золото на хоругви российской монархии вызывает в памяти верующего апокалиптический образ Жены, облачённой в солнце. По толкованию патристики, Жена, облачённая в солнце, – это Церковь. Не является ли сия деталь хоругви золотым намёком на союз креста и меча, Церкви и государства, призванным заодно преображать землю, весь белый свет во Имя Христа?
Это знамя – не только символ сохранения на Руси православной веры, но и кровного братства трёх восточно-славянских народов: русских, украинцев, белорусов.
Да будет же оно благословенно Пресвятой Троицей, чтобы было страшно всем врагам нашим, чтобы оно давало нам дерзновение и крепость, избавило от всех нужд и бед наше истерзанное Отечество, чтобы оно переменило скорбь и сетование на радость и веселие, и бедствование на твёрдый мир!
Аминь.
Икона и кумир
Попадая в православный храм, человек входит в хоровод муз. Храмовое действо – союз архитектуры, драмы, живописи, хорового пения, поэзии. Храм – иллюстрированное издание Библии, поэма славословия и поклонения. Здесь каждое место, жест или движение, вся хореография литургии насыщены глубоким смыслом, высокой символикой. Украшенные крестами поручи пресвитера напоминают о жёстких путах на руках Спасителя. Алтарь – гробница, где покоится Пречистое Тело Иисуса Христа; амвон – камень, приваленный к входу в усыпальницу Назарянина. Свечи – знак нашей тающей жизни и немеркнущего света веры.
Эти свечи мы зажигаем и ставим перед иконами.
Ниспровергатели иконопочитания: баптисты, адвентисты, иеговисты, пятидесятники и прочие протестанты атакуют нас ветхозаветной заповедью «Не сотвори себе кумира,… не поклонись и не послужи ему». Они при всей их начитанности в Священном Писании не замечают в упор, что Господь вложил в сердце человеку «делать всякую художественную работу» (Исход, 35, 33). Встречая на иконах и в храмах орнаменты, узоры из цветов, мы помним, как Библия ткёт голубой и пурпурной шерстью гроздья винограда и яблоки на ризах ветхозаветного духовенства, как из чеканного светильника в храме царя Соломона струится стебель металлического миндаля, как на кедровых досках внутри святилища вырезаны подобия распускающихся растений. Когда мы созерцаем ангелов на иконах, разве перед нами не реют иерусалимские херувимы? Бог повелел древним евреям изваять их из драгоценных пород дерева и с распростертыми крыльями укрепить над ковчегом, где хранились каменные скрижали Моисея с законами Иеговы.
«Открытый Моисею закон… никогда не предписывал нам верить, что Бог бестелесен, а также и то, что Он не имеет никакого образа или вида, но только то, что Бог существует и что нужно в Него верить и Ему одному поклоняться. Закон предписывал не отступать от культа Иеговы, не придумывать для Бога какого-либо образа и не делать Его изображения, которое походило бы на Господа; оно неизбежно напоминало бы какую-нибудь сотворённую вещь, виденную человеком, и, стало быть, Адам, поклоняясь изображению Бога, думал бы не о Боге, но о том, на какой предмет то изображение походит. Честь и поклонение, следуемые Богу, человек в конце концов воздавал бы вещи» (Б. Спиноза, «Богословско-политический трактат», М., 1957).
Ошибались ли библейские пророки, говоря, что Господь имеет глаза, руки, мышцы, что Он гневается, ревнует, любит, милует, движется, т.е. имеет телесный облик, родственный человеку, и Который в новозаветную эру и был как отражение Божества запечатлён на иконе? Полагают, будто ветхое благочестие наделяло Творца Вселенной человеческими формами и качествами лишь по недомыслию, неспособности бренного ума нырнуть в мистическую мглу и рассмотреть там все подробности Абсолюта.
Но не кроются ли здесь прообразы, предчувствия того, что Бог воспримет в Себя образ человека?
Этого Бога видит сегодня вся земля, о Его воплощении свидетельствует каждая икона.
Соглашаясь с протестантами в том, что человек не должен создавать кумиров и кадить им, мы не забываем, что сия заповедь дана на заре библейской туманности, когда образа Божия никто нигде не видел и когда любая попытка изобразить Его – в лучшем случае оказывалась лёгким ветерком, в худшем – золотым тельцом или драгоценным истуканом. Только когда исполнились сроки, Бог явил себя в облике Иисуса Христа и как Богочеловек жил и живёт с нами. «Отрицание человеческого образа Бога логически приводит к отрицанию Богоматеринства… и к отрицанию самого смысла Спасения» (Л.А. Успенский, «Богословие иконы Православной Церкви»). Наличие в текстах Ветхого Завета такой стилистической детали как виноградная лоза не предуказывает ли на гармоническую связь с Новым Заветом, где Христос говорит о Себе и о Своей Церкви именно как о виноградной лозе? Виноград – символ нашего спасения, ибо вино присутствует в Таинстве Причастия. Образ Христа, запечатлённый на иконе – не просто догматическое подтверждение Боговоплощения. Он связан неразрывно с центральным Таинством Церкви – Евхаристией. Если мы отвергаем, что на иконе видим Бога в Его телесном зраке, как можем веровать в то, что именно Его Тело пресуществлено и предлежит нам в Чаше на литургии? Отцы 7 Вселенского собора подчеркнули: без иконы Христа мы не узнаем Самого Спасителя, егда Он приидет во славе во Царствии Своем, ибо приидет Он в зримо-телесном просветленном образе, каким Его видели после Воскресения из мёртвых ближайшие ученики.
Икона – не вспомогательный материал для упражнения в благочестии. Как Евангелие и крест, она – само вероучение Церкви. Если Византия богословствовала словом, то Русь богословствовала иконой. «Русская икона… при необычной глубине её содержания… по-детски радостна и легка, полна… теплоты… Нигде жизнерадостное и жизнеутверждающее христианское мировоззрение не нашло столь яркого выражения, как в русской иконе» (Л.А. Успенский, там же).
До Христа прекрасное античное искусство ваять скульптуры было как бы слепым. Тогда отказывались заглянуть в даль. Вместо глаз у языческих богов или героев были куриные яйца из мрамора, такие же, как у барельефов Маркса, Энгельса и Ленина на здании института марксизма-ленинизма в Москве. То не глаза, а окошки, замурованные морозом, нет пробуравленного зрачка. И только христианство, обратив взор человека вовнутрь себя и в даль духовного пространства, просверлило, продышало зеницу у заиндевелых скульптур. Ожили, стали человечнее после Христа глаза искусства.
Помолимся же, чтобы Господь отверз очи тем, кто путает икону с кумиром, глаза с яйцами!
Аминь.
Песнь песней
В разные времена по-разному определяли условия человеческого существования.
Говорили: «Мыслю, следовательно, существую!».
Другие утверждали: «Хочу, следовательно, существую».
Третьи додумались до вывода: «Работаю, следовательно, существую».
Христианство же во все века пело одно и то же: «Люблю, следовательно, существую».
И какое нам дело до того, что во всех литературных и философских энциклопедиях совсем недавно судачили, да и будут, вероятно, и впредь талдычить всякие ученые мужи, будто автором библейского гимна любви под названием «Песнь песней» является не тот, кто себя за него выдает, что сочинение сие – крошево интимно-лирических и свадебных песен, и будто церковь выхолостила из текста чувственное начало двух сгорающих от пылкого влечения людей, представив их любовь как взаимоотношения души и Бога, Церкви и Христа.
Бывает, неравнодушен один человек к другому, и как ни бьётся родня, ни взывают к разуму соседи, сотрудники, а порой и представители государства и прочие доброжелатели, доказывая, что он или она тебе не пара, и ростом не вышел, и мозги набекрень, и прошлое у него не очень стерильное, и в кармане ни гроша, а не может душа без него, хоть режь!
Перевороти горы книг, ломай голову, страдай от бессонницы, всё равно не поймёшь, почему мужчина, с тонким, изысканным вкусом, которому всё некрасивое, может, вопреки рассудку, всей своей физической и духовной культуре быть без ума от ограниченной, ленивой, не шибко чистоплотной женщины, у которой, выражаясь библейски, сосцы, как башни, и которую он уподобил кобылице в колеснице фараоновой.
Может, так Бог любит человека?
Весна – классическое время любви. Раскрываем «Песнь песней» и в подтверждение читаем: «Вот зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей…». Именно в этот период года слышим со страниц Священного Писания зов к нашей душе, словно к невесте, восстать, двинуться в путь, подальше от гор барсовых, прочь, по комментарию св. Григорий Нисский, от зверей, ближе к Богу.
Мы видим, как царь вводит дщерь именитую в свои чертоги, в дом пира. Не так ли Бог влечет нас на пир богослужения в храм?
Жених грядёт в полночь к невесте, но она не спешит отворить Ему дверь. Колеблется, не верит, что её суженый, друг полевых лилий, совсем близко. Не душа ли человека порой медлит открыть себя Богу, не ведая, что Он всегда рядом?
И Бог, если человек не дает Ему доступ к себе, как бы тихо ускользает. И тогда разъедает тоска, где Он? Где Ты, Любимый?
Вникните в монолог прекраснейшей из женщин: «Положи меня, как печать на сердце Твое, как перстень, на руку Твою, ибо крепка, как смерть, любовь… Она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют её. Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем».
Кто спорит? Любовь совмещает в себе ветхое и новое, чувственное и духовное! Кто не согласен с тем, что от внешней страстной природы любви хомо сапиенс должен подниматься к созерцанию внутренней красоты?
«Любить человека ради Бога – это самое высшее, чего достиг смертный, без этой крупицы соли и пылинки амбры, любовь скорее глупость и живность» (Ф. Ницше).
Аминь.
Железный игумен
Для чего человеку даны четырнадцать или двадцать лет? Для того, чтобы на манер героев рассказа Чехова бегать в Америку?
Юный сын покойного княжеского помощника Феодосий примкнул к проходившим через Курск странникам и вместе с ними направил стопы свои в Иерусалим поклониться гробу Господню. Мать кинулась в погоню. И подобно тому, как столетиями позже за первой московской заставой задержали будущего знаменитого славянофила Алексея Хомякова, который в шестнадцать лет без паспорта решил дать тягу из дому в ту страну, где хотел драться с оружием в руках за свободу христиан, так и нашего пилигрима настигла мамаша недалеко от Курска. Юноша, не подозревая о приближении родительницы, ехал в поскрипывающем обозе и уже мысленно представлял досточудные места, где ступала нога Всемилостивого Спаса, как вдруг кто-то сзади схватил его за волосы, поверг с телеги на землю, с руганью стал бить.
Пригрозив ворчащим паломникам, мать воротила путешественника в своё гнездо; всего в синяках посадила в прочную клеть, позвала кузнеца – заковала в железо. Теперь отрок передвигался, звеня кандалами, словно прообразом вериг. Неукротим был норов у вдовы, но смирение у её чада было покруче. Понимал: дано ему жало в плоть. И жало это – родная мать.
Пообещав не стремиться впредь за сине море, за высокие горы, Феодосий добился освобождения от железных колодок… По-прежнему почти ежедневно ходил в храм и, заметив, что на литургии не хватает просфор, сам решил овладеть мастерством пекаря. На задворках ухоженных хором, тайком от всех, пользуясь советами старой боязливой стряпухи, замесил тесто. Сколько слёз скатилось в муку, когда подгорали первые изделия! Позднее дело наладилось, и вскоре вдова, к стыду своему, столкнулась на базаре с собственным сыном: торговал с лотка отличные просфоры с чётким изображением креста! Вырученные деньги раздавал нищим.
Печь и продавать просфоры не считалось зазорным. У греков, например, это обычное занятие. Всякий почтенный византиец из простонародья имел печати для теста. Но супруге умершего гридня поперёк горла встряли неаристократичные порывы её отпрыска.
Ущемлённая самолюбием, насмешками горожан, вдова пострекала сына упрёками, но поскольку это успеха не имело, опять перешла к побоям. Феодосий сбежал. Скрывался некоторое время у священника в соседним уезде, помогал в качестве дьячка. Родительница разыскала строптивца, вернула под своё властное крыло.
Тогда бунтарь тайком возложил на себя когтистые вериги. Мать заметила на его рубашке кровь. Вспыхнул скандал. Феодосий дал стрекача из дома в третий раз.
Добрался до Киева. Поднялся в горы, в пещеру к Антонию – зачинателю монашества на Руси. Тот сперва не хотел брать под своё окормление простеца, «худыми ризами облачённого» (а худыми они были оттого, что Феодосий свою добротную одежду раздал обездоленным). «Место скорбное и теснейшее паче иных мест, выдержишь ли?» – испытывал старец молодого человека. Внял, однако, горячим мольбам двадцатилетнего «новобранца» и поселил его под землёй вкупе с немногочисленной братией монастырька.
«Жутко тогда было в горной норе одинокому человеку, но до рассвета мерцала его свечечка и до рассвета звучали его молитвы. А утром, изнурённый,… но со светлым лицом, выходил он на Божий день, на дневную работу, и опять кротко и тихо было в его сердце» (И. Бунин, «Святые горы»).
Слезами, пощеньем, бдением усовершенствовал Феодосий свой дух, не забывая о теле, дабы полностью отречься от похоти плоти, похоти очей и гордости житейской и жить только для Бога. Но, если бы тем всё и ограничилось, как это ни мало, Феодосий не стал бы идеалом святости для русского народа, а избыл бы кроткую напряжённо аскетическую жизнь свою вполне достойно, хотя и анонимно.
Почему воссияло его имя, как «звезда незаходимая многосветлого солнца»?
Монашество вторглось на Русь из Византии без какого-либо устава. Данное обстоятельство не могло ли подменить истинное иночество мнимым? Пустынножительство – не заботливое чесание отрощенных бород, не «пренебрежение к покусыванию блох во власянице», а тяжёлый постоянный внутренний и внешний труд. У отшельника нет никакой собственности, даже иголки, той, что была у Макария Великого, которую он с превеликой радостью отдал ворюгам, когда те побаловали своим тщательным вниманием его пустую келью. Одежду, пищу инок получает из казны монастыря. Стол чернеца скуден, ряса из черствого полотна. Физическая, нередко грязная и грузная, работа (например, лесоповал) сочетается с длинными службами в храме, строгим послушанием железному игумену.
Именно такой благодатный режим впервые на Руси учредил в монастыре избранный игуменом преп. Феодосий. Сей Устав он позаимствовал у насельников древнего Студийского монастыря, что в Константинополе.
Когда наступало время Великого Поста, пастырь печерцев, простившись с братией и преподав ей поучение, брал с собой несколько ковриг хлеба и затворялся в пещере, засыпая вход землёй. О монастырских нуждах переговаривался через малое оконце раз в неделю, не забывая среди молитвенного уединения о нуждах и тех, кто нёс бремя тягот за церковной оградой (каждую субботу посылал воз хлеба заключённым в темнице).
После поста бывал иногда игумен на пиру у киевского князя, сиживал в гостях у бояр и порой без всякого снисхождения обличал сановитую публику за неблаговидные выходки, несмотря за угрозы и даже убийства иноков, не боялся перечить самому Великому князю… Память преподобных Киево-Печерских отцов наших и вождя лавры мы чествуем по сей день.
К сказанному остаётся добавить, что неугомонная мать преп. Феодосия, разыскав сына в Киеве, под влиянием бесед с ним постриглась в монахини.
Аминь.
«Со святыми упокой»
Ежедневно умирают двести тысяч человек, восемь тысяч в час, сто тридцать три в минуту.
Одним устраивают помпезные государственные похороны, салютуя мертвецу артиллерийскими залпами; других закапывают в шикарных гробах, заваливая могилу горой цветов; третьих без всякой музыки везут в автомашине к месту последнего упокоения или на телеге доставляют бренные останки в храм для отпевания.
Сооружая пирамиды, склепы, мавзолеи, грандиозные памятники, провозглашая вечную славу усопшим или павшим, совершая тризны, поминки, чего домогается человек, если не верует в бессмертие души? Почести, воздаваемые умершим, имеют смысл лишь в связи с религиозными представлениями.
Велика ли вечная слава рядом с Вечной памятью?
Много ли удержала человеческая слава в своей памяти?
Кого мы помним? Александра Македонского, Шекспира, Стеньку Разина, Гегеля? «Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет не останется памяти у тех, которые будут после», – стенал библейский Экклесиаст.
Любой из нас не в силах охватить даже треть удивительных имён, событий последней четверти века, тем паче за всю историю, скажем, от Рождества Христова до наших дней. Слава о великих деяниях прошлого или теперешних событиях просачивается сквозь наше сознание, как вода сквозь пальцы, и уходит в песок архивных фактов. Популярность выдающегося негодяя, полководца, талантливого актёра, крупного политика, учёного остро ощущают их современники; в третьем же поколении, корми не корми эту известность, она потихоньку хиреет, блекнет, превращается в формальность, приедается; её оттесняют новые молодые имена, свежие скандалы. Зная скоротечность земной славы, Христос сказал: «Не принимаю славы от человеков».
Слава не может быть вечной, если воспевает нечто не вечное.
Вечная слава присуща лишь Вечной Памяти.
Вечная Память – синоним Бога. Бог видит каждую тварь, помнит каждую былинку, каждое Своё создание, которое когда-либо хотя бы тенью скользнуло на земле. Что наша жизнь, как не прохождение тени? И где, как не в Церкви, встречают друг друга тени ушедших и тех, кто жив?
Седая древность донесла до нас образ смерти, хищной рыбой бросающейся на человека. Смерть заглатывает наше тело, как наживку, приманку, и оказывается с крючком в брюхе. Этот крючок – бессмертная душа человека.
Частица, вынимаемая из просфоры, которую мы подаём в алтарь во время литургийного жертвоприношения, соединяет нас и душу усопшего с Богом, ибо частица сия омывается в евхаристической Чаше Пречистою Кровью Спасителя. Мы словно вынимаем эту частицу из своего сердца, испрашивая у Вечной Памяти милости для новопреставленного или ушедшего к Богу много лет назад. «Наступает время, и настало уже, когда мёртвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут!»
Аминь!
Соблазн
Древние и многие современные евреи, не веруя в Божественность Иисуса Христа, тем не менее по соображениям питаемой ими закоренелой иллюзии о превосходстве их племени над другими народами, любят уколоть православных указанием на то, что наш Спаситель от рождения еврей. С подобным успехом они могли бы сослаться на Гитлера, у которого, согласно нынешним генеалогическим исследованиям, якобы имелись в семье глубоко еврейские корни.
Почему в таком случае мы, христиане, празднуем столь сугубо еврейское торжество как обрезание? Во-первых, Православная Церковь чествует не просто обрезание, а Обрезание Господне. Всё, связанное со Христом, любой миг Его земной жизни – будь то изгнание торгашей из храма, извлечение из объятий смерти праведного Лазаря, мытьё ног ученикам на Тайной Вечере – для верующих свято. Во-вторых, празднуя Обрезание Господне церковь догматически утверждает, что Христос – не миф, а реальная Личность, из плоти и крови, Богочеловек. Это ставит заслон ересям, будто человеческое естество Христа – призрак, запечатлённый на иконах.



