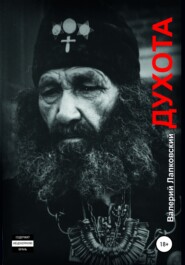 Полная версия
Полная версияДухота
«Сущность», – писал св. Василий Великий, – относится к Ипостаси, как общее к частному». Общее в Пресвятой Троице – единство, равночестность Трёх Лиц, частное – Их различие Друг от Друга. Особенности Трёх Ипостасей в том, что Отец безначален, не рождён, Сын – рождён от Отца, Дух – исходит от Отца. Ипостаси служат не разобщением, но бесконечным различением Трёх Лиц внутри бесконечно единой природы Бога.
Учение о Пречистой, Непостижимой, Непобедимой Троице, тщательно разработанное святыми каппадокийцами, – факт не только евангельский, новозаветный. Господь открывал Себя как Троицу и в ветхозаветную эру. Библия излагает множество тому доказательств; в числе их небольшой сто девятый псалом, сочинённый дальним родственником Иисуса иерусалимским царём Давидом.
«Сказал Господь Господу моему: сиди одесную Мене», – так начинает Давид песнь Богу, словно чеканя Символ православной веры, где говорится, что Христос взошёл на небеса и как Сын Божий сидит одесную Отца. Давид поёт о предвечной рождённости Бога Сына: «из чрева прежде денницы (раньше ангелов) родил Тебя».
Два Лица Пресвятой Троицы сразу предстают перед нами в этом псалме, где же Третье, Дух Святый?
«Жезл силы Твоей пошлёт Господь», – продолжает вдохновенно Давид. Христос обещал апостолам послать на них Духа Святаго. Посланничество – характерная черта ипостаси Бога Духа. Что может быть жезлом силы Вседержителя, как не действие Святаго Духа? В Ветхом Завете Дух открывается ещё не как Лицо, но как Сила.
Сила – действие Бога, Его энергия, присущая всем Трём Лицам как вечный волевой акт. Всякая благостыня от Отца исходит, через Сына простирается и совершается во Святом Духе. Лучи у Троичной Радуги разные, но вместе составляют одно явление, единый Лик небесной красоты. Созерцание Пребезначальной Троицы сквозь призму краеугольного догмата Церкви – предел и средоточие всей жизни христианина. Как в Боге не сливаются неразличимо три Лица, так и в Церкви всякий верующий имеет своё лицо, не сливаемое с другими, отличающееся от иных и в то же время неразрывно соединённое с ближними общей любовью, общей природой, общим Телом Иисуса Христа, в Которого облекаются все крещённые во благоуханное Имя Живоначальной Троицы, Ей же подобает Слава, Честь и Поклонение во веки веков!
Аминь.
Св. Василий Великий
Отец Церкви св. Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, мог бы сказать о себе словами библейского пророка: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен; Ты сильнее меня, и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мной. Ибо лишь только начну говорить я – кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о Нём, и не буду более говорить Имя Его: но было в сердце моём, как бы горящий огонь, заключённый в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог» (Иер., ХХ, 7-10).
В гнетущую годину арианской смуты, когда на Православие ополчились христиане, искажающие в еретическом рвении подлинное учение о богочеловеческой личности Иисуса Христа, Василий Кесарийский не побоялся возвысить голос в защиту меньшинства, право правящего слово Истины. Он отправился к императору в Константинополь и в мягкой почтительной форме попросил вернуть православным кафедральный собор г. Никеи, который был отдан арианам.
Государь долго в упор, молча рассматривал челобитчика. Монарх вспоминал то, что ему нашептал один сановник, тайком побывавший в храме, где служил обедню великий каппадокиец. Бородатый, сосредоточенный, одетый в тяжёлые, затканные золотом одежды, жрец взял в руки треугольный нож и, прочитав, не торопясь, молитву, одним ударом рассёк голову младенцу, который тихо лежал на большом блюде. Через некоторое время из алтаря вынесли чашу с тёплой кровью, чтобы причащать народ.
Так увидел неверующий во Христа иудей, как христианский архипастырь совершает жертвоприношение Богу, как не гнилым хлебом утоляет алкание страждущих. Агнец, вырезанный из крупной просфоры для насыщения верных, предстал воспалённому взору иудея, как заколаемый малыш.
Император отказался удовлетворить прошение. Тогда архиепископ предложил решить спор следующим образом: закрыть храм и дать возможность православным и их противникам в течение трёх суток молиться о ниспослании знамения свыше, которое бы определило, кому должен принадлежать грандиозный храм.
Три дня и три ночи скреблась пылкая молитва ариан в двери собора. Но осталась их душа ни с чем, как забытая озябшая собака, что в непогоду царапает когтями обшитую кожей или железом дверь.
И вошёл тогда в один из небольших храмов Никеи св. Василий и сотворил при стечении огромного количества людей, стоящих внутри церкви и вне её, всенощное бдение и, воздвигнув над толпой хоругви, как мачты с парусами, на которых начертан солнечный лик Спасителя, двинулся вместе с народом к запечатанному собору, хрипло от волнения запев:
«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!»
Народ подхватил священную песнь, и тот, кто ещё не знал её текста и мотива, тут же выучивал их, прислушиваясь к другим.
То была молитва, которую мы изо дня в день повторяем теперь, точно выражая, славя, исповедуя, что Бог, вопреки мнению ариан всех времён и толков, Триедин, Крепок, Бессмертен, Свят! Впервые в истории Церкви этот гимн встречается в житии именно св. Василия Великого (Н. Успенский, «Византийская литургия», БТ, – №21, М., 1980).
Земля гудела под шествием людей. Хмурилось небо. Неожиданно налетали резкие удары ветра, едва не вырывая хоругви из рук. Раздавались где-то неподалёку голоса грома. Падучая подрезала ноги у нескольких больных.
Тоскливо кричали птицы.
Подойдя к вратам собора, святитель горячо прочитал молитву. Велел народу умолкнуть. Приблизился к запертым дверям. Медленно перекрестил их и воскликнул: «Благословен Бог наш…». Толпа выдохнула едиными устами и единым сердцем: «Аминь!».
В этот момент земля дрогнула. С карниза над входом в храм сорвался камень и врезался наземь рядом с архиепископом, обдав парчовую ризу пылью и штукатуркой. Заскрипело, заныло железо в дверных петлях. Створки распахнулись, с размаха ударились о стены. Началось землетрясение.
Люди с воплями в панике бросились врассыпную.
Побледнев, св. Василий запел: «Возьмите врата ваша,… и внидет Царь Славы».
Архиерей шагнул в сотрясающийся от земных толчков храм. И тут же в присутствии тех, кто не сбежал, стал совершать литургию.
То был пир православной веры во время разбушевавшейся подземной чумы, когда клокотали колокола, валились здания, напрягались, чудилось, все силы преисподней, стонала разверстая земля, и мертвецы, казалось, вот-вот выползут наружу, «как саранча из треснувших могил»…
Сегодня, в праздник св. Василия Великого, мы восклицаем: «Восстань, о честная глава, от гроба Твоего! Восстань, отряси сон. Ты не умер, но спишь до общего всем восстания. Восстань, ты не умер. Не можешь умереть ты, веровавший во Христа, Жизнь всего мира. Отряси сон, возведи очи и смотри, какой чести тебя сподобил Господь и на земле не без памяти о тебе оставил твоих сынов! Возрадуйся и возвеселись!» (Митр. Илларион, «Слово о законе и благодати»). Грянь голосом своим, распахни молитвой врата душ всех живущих, чтобы Русь вошла в храмы и запела: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!»
Аминь.
Апостол языков
«Имел ли ап. Павел должность?
Зарабатывал ли он в таком случае большие деньги
каким-либо другим образом?
Но был ли он, по крайней мере, женат?
Но в таком случае Павел не серьёзный человек!»
С. Кьеркегор
Традиционный портрет христианина, ставшего святым, складывается из двух деталей: борода до пояса и глаза без ресниц – выпали от плача.
Апостол Павел не похож на этот образ. Бывший гонитель христиан не обладал внушительной внешностью. Многие художники изображали наставника народов лысым, с небольшой бородой. Глаза у благовестника горели нервным, лихорадочным огнём. Вероятно, он чем-то тяжело болел, но распространяться на эту тему не любил. Болтали, что Павел зол, и потому лишь стал последышем Христа, что не смог жениться на дочери иерусалимского первосвященника. Глуховатый и в то же время энергичный, гибкий голос этого человека мы слышим на богослужениях, когда звучат вдохновенные слова его апостольских посланий, адресованных нам, евреям и коринфянам, галатам и римлянам двадцатого века.
Апостол Павел – первый христианский богослов в подлинном смысле. Из найденных им христианских принципов он, как отец и учитель Церкви, вывел все теоретические следствия и сумел их гениально применить на практике, построив здание христианства.
В наше время, как и в старое, есть немало охотников утверждать, будто идеи апостола Павла – комбинация древних начал, вытекающих из иудаизма, философии александрийского мистика Филона и миросозерцания эллинизма.
Апостол Павел был еврей, ревностный законник, фарисей «с крепким лбом и железным сердцем». До поры до времени он опустошал Церковь Христа. Люди, радостно умирающие под его мечом, полные веры и Духа, лишь распаляли к преследованию. Они видели в распятом Иисусе Мессию, Того Мессию, Которого ждал и сам Павел, но пришествие Которого представлял иначе.
Переворот наступил на пути в Дамаск, когда Павлу предстал чудесным образом Христос, обратив его оружие на врагов новой веры. С этого часа «вся жизнь благовестника была непрерывной борьбой с иудейством и направлялась к его подрыву» (Н. Глубоковский, «Благовестие ап. Павла по его происхождению и существу», т.1, СПб., 1905).
Отныне для Павла Христос был Сыном Божиим и спасение было во Христе.
Евреи спасение только через Мессию отрицали. Мессия в понятиях раввинов – потомок Давида, вполне земной человек, отнюдь не Сын Божий, но просвещённый Богом судия, который спасает, возрождает мир, основывает Царство Божие. Спастись можно и без Мессии, через закон, Моисеевы скрижали. Еврей собственной энергией способен достичь желаемой высоты праведности. Отсюда ненависть к христианам, причина гонений на тех лиц, которые не видели заслона от греха в соблюдении субботы, любви к ближнему. Ожидание Мессии было живо, остро в Израиле, но носило подчинённый характер. Спасение-де в покаянии и добрых делах. Тут центр, а не в Мессии. Сам народ Божий – Мессия, за которым пойдут другие нации. Материализм и политика в мессианских чаяниях евреев стали поперёк души великого мыслителя и миссионера Павла.
Своим спасением иудей, как наш современник, желал быть обязанным только самому себе и на земле, и на небе. Он не нуждался ни в примирении, ни в посреднике. Павел же писал: всё от Бога, примиряющего нас с Собой Иисусом Христом. Иудейская догматика не содержит ни спасительных страстей, ни живоносной смерти, ни искупления Мессии. Для Павла крест – венец подвига Мессии, для фарисеев и саддукеев – чушь. Для спасения у каждого потомка Авраама достаточно национальных заслуг, чтобы расплатиться за грехи по счёту, предъявленному Богом.
Только израильтяне суть дети Божии. Без них вселенная не просуществовала бы даже часа, ибо весь мир получает благословения лишь благодаря заслугам Израиля.
Ангелы говорят сугубо по-еврейски, сообщаясь только с иудеями. Ангелы, допускали евреи, созданы обрезанными. «На пятом небе», – откровенничает Талмуд, – «ангелы поют Богу только по ночам, днём помалкивают, не мешая молитвам Израиля лететь к Богу».
Ничего подобного в богословии апостола Павла нет.
«Фарисейская доктрина бессмертия обязана своим развитием преимущественно житейским удручениям, была результатом плача, рыдания и горя всей израильской истории» (Н. Глубоковский, там же). Иудаизм в вопросе воскресения форсирует чисто человеческую потребность восстановления благочестивых натур помимо Христа.
Для христиан же воскресение немыслимо без Мессии; всё только через Воскресение Иисуса от гроба, независимо от наших тщетных заслуг. Если бы Христос не воскрес, даже жившие по вере во Христа не воскресли бы!
Мессия, Искупитель был для евреев, по замечанию одного богослова, красной ниткой в канате их религиозности; если нитку вытащить, канат от этого не лопнет.
Филон, египетский еврей, между книгами которого и работами апостола Павла не перевелись по сей день любители натягивать параллели, верил не во Христа, а в Иегову. Для Филона глашатай истины – Моисей, а не Христос. Внешние аналогии в терминах ничуть не свидетельствуют о родстве духа Павла и Филона, поскольку воплощение Бога для Филона – абсурд, а для Павла – стержень христианства.
Утверждают, будто Павел позаимствовал у Филона учение о логосе.
Что такое Логос?
Ум, слово.
У Филона Логос отождествляется с умением жить по Богу. Логосами могут быть, например, ангелы или иудейский первосвященник. Логос – образ, тень, подобие Бога. «Туманный и вечно изменяющийся Логос Филона есть умственное достояние иудействующих философов; но он бесконечно далёк от Божественного Искупителя, Спасителя всего мира» (Фаррар, «Первые дни христианства», СПб., 1888). Евангелист Иоанн под словом «Логос» понимает Бога, пришедшего к нам во плоти. И ап. Павел подразумевает именно данную веру, будучи совершенно свободным от недостатков и слабостей Филона, пытавшегося втиснуть мысли Платона в Библию.
Нелепо также привязывать апостола Павла к греко-восточной культуре, которая затронула Израиль. Судьба – главный козырь стоиков, рыцарей эллинизма. Самоубийство – выход из накуренной комнаты на свежий воздух. Что тут общего с христианством?
Между богословием ап. Павла, учениями и исторической обстановкой, в которую он жил, лежит пропасть. «Христианство,… будучи окончательным отходом от иудейства, где оно возникло,… основано на совершенно новом принципе и произвело полную революцию в вероучении» (И. Кант) и спасении народов.
Аминь.
Санта Клаус
В книге воспоминаний члена КПСС известного клоуна Юрия Никулина помещён куплет из песенки, которую распевали школьники в эпоху Сталина:
«Не руби леса без толку,
Будет день уныл и сер.
Если ты пошёл на ёлку,
Значит, ты не пионер!»
О чём это говорит? О том, что на новогоднюю ёлку и на деда Мороза бравые атеисты косились как на старорежимный религиозный пережиток. И надо признать: не без основания.
Центральной персоной новогоднего торжества исстари считается Дед Мороз. Без него нет веселья ни на Востоке, ни на Западе. В декабре по улицам и магазинам Европы, Америки снуют с клубящимися белыми бородами косяки Дедов Морозов. Нередко это люди, которым посчастливилось на время найти приятную работу. В нашей стране почти на каждом уважающем себя предприятии подыскивают охотника на роль Деда Мороза. Дети пишут много писем новогоднему герою.
Новолетье люди празднуют не одни, а как бы со всей природой. В простой детской песенке «В лесу родилась ёлочка» кто только не скачет, не кувыркается от радости? Зайцы, волки, лисицы! В этом незамысловатом гимне нашего детства природа словно забывает о смертельной борьбе за существование. Звери ведут себя так, как предсказывал пророк Исайя: «барс будет лежать вместе с козлёнком, и телёнком, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет их водить». Этот фрагмент читают на рождественском богослужении.
Препирающиеся с Богом язвят: христианство не самобытно, оно позаимствовало, перехватило у язычников их идеи, обряды, переиначив на свой салтык. Христианство и впрямь не столько отрицает, сколько включает в себя поэзию язычества, освящая землю, травы, источники вод; среди христианских святых Флор и Лавр, тороватые покровители лошадей и всей природы как Богом созданной и Ему принадлежащей.
Но соображает ли ниспровергатель оригинальности, неповторимости христианства, что делает он сам, когда в свою безбожную жизнь незаметно для себя привносит то, что испокон веков является достоянием нашей религии? Ибо, бегая под Новый год за вином и яствами, прикидывая, кого пригласить в гости, как украсить ёлку, постигает ли доморощенный товарищ атеист, что праздничным застольем он не только итожит достижения и промахи истекших двенадцати месяцев, но, заманивая к себе Деда Мороза, как бы испрашивает у Бога благословение на будущее, т.к. Дед Мороз – не спешите возражать – это святитель Николай в гриме.
Внешне и внутренне Дед Мороз – копия Мирликийского чудотворца. Мы забыли древний прообраз, утеряли родословную Деда Мороза и, считая, что он пришёл в нашу жизнь из чудной сказки, а не из исторической действительности, перестали отождествлять личность Николая Угодника с персонажем новогоднего торжества. Не случайно Церковь отмечает память Святителя зимой, накануне Рождества. На Западе Деда Мороза именуют «Санта Клаус», что в переводе значит «Святой Николай». Фейерверк новогоднего веселья на Западе немыслим без ангелов, в чьих нарядах порхают дети вокруг Деда Мороза, облачённого в одежды, похожие на архиерейские ризы, расшитые звёздами и крестами.
На иконах мы видим Святителя Николая с белоснежной бородой. Встречал ли кто-нибудь хрестоматийного Деда Мороза в ином облике? Заступник рода христианского, утроба щедрот! Разве не совпадает эта характеристика Мирликийского чудотворца с ощущением неизбывного тепла, бесконечной доброты, веющей от Деда Мороза?
Мы прячем детям под подушки в новогоднюю ночь подарки. Откуда сей трогательный обычай? Святитель Николай подсунул ночью тайком трём отроковицам и их отцу «три узельцы злата», спасая от голода, который выталкивал их на улицу в объятья проституции.
Пусть же всегда нашу скабрезную, неуютную, нехристианскую жизнь освящает ликующая встреча с Дедом Морозом!
Пусть:
«Сусальным золотом горят
В лесах Рождественские ёлки
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят!»
(О. Мандельштам)
Пусть по всей земле, на Востоке и Западе, в каждую хижину, дом, дворец шествует с развевающейся белой бородой краснощёкий посланник Бога – наш неузнаваемо милый Святитель Николай!
Аминь.
Страшный суд
Погибнет ли наш мир?
Или коптиться ему вечно?
Мелькнут миллионы лет, земля упадёт на Солнце, и два небесных трупа в смертельном объятии закружатся в «чёрном ящике» Вселенной.
Так ворожит на кофейной гуще будущего один из учителей исторического материализма (Ф. Энгельс, «Диалектика природы», М., 1975).
«В мир будет послан острый серп Божией ярости», – без обиняков говорит Апокалипсис.
Кто же и кого пугает жупелом конца и с какими педагогическими целями? Безбожники с их прогнозом неминуемой гибели планет или христиане с их чаяниями Страшного Суда? Ведь религия и её противники согласны: мир обречён, откармливается на убой.
Щемящая лирика материализма утешает нас тем, что последний день якобы далёк. Шмыгают «вельможи земли», тысячи людей мимо Церкви, как мимо бронзовой музейной статуэтки, и не верят в Страшный Суд. Убийца или вор грезят навеки ускользнуть от возмездия в могилу. После нас хоть потоп! Но «духовная жизнь сжалась бы в судорогах безумия, если бы время стояло перед нею безнадёжной стеной, если бы последнее слово оставалось за тёмной силой слепой судьбы и мрачной властью зла» (М. Тареев, «Вера и учение Христа», т. 2, СПб., 1908). Для христиан «продуманным до конца требованием… считается требование конца мира и истории, не пассивное ожидание этого конца, полное страха и ужаса, а его активная творческая подготовка», – писал христианский философ Н. Бердяев.
Церковь – храм юстиции и Трибунал!
Главный храм христиан на Западе – Сикстинская капелла в Риме – расписан сценами Страшного Суда. Картины Второго Пришествия Христа багровеют и в православных обителях. Трубя о грядущей жатве, кровавом браке, когда «люди будут издыхать от страха» (Лк., 21, 25), они вгоняют в человека чувство непреходящей тревоги за плевелы в собственном бытии и в существовании мира, который «оледенел от дьявольской лести» (стихира на «Господи воззвах»).
Кто не знает, что такое суд?
Встречал ли кто-нибудь судью, прокурора или защитника, которые бы любили подсудимых? Процедура судебного разбирательства, подкрашенного гуманностью, разыгрывает видимость раздумий перед вынесением приговора. Наказание почти всегда заранее определено, задолго до суда.
Так ли будет на Страшном Суде и когда?
Всё будет так, как сегодня. Будут политические шоу, будут космонавты на орбите, будут визжать свадьбы и вдруг – грянет!
Взовьются из могил мёртвые и станут рядом с живыми. К Христу на суд, «как баржи каравана, столетья потекут из темноты».
Страшный Суд предоставит широкие судебно-процессуальные возможности для всех сторон. Раскроются независимость суда, гласность, исследование доказательств, всякие юридические гарантии, краткость в решении участи находящихся под стражей, и прочие тонкости и льготы.
Козлы будут отделены от овец.
«И восплачутся все колена земныя».
Кто же спасётся? Только 144 тысячи, помеченные печатью христианства, как утверждает Новый Завет? Но Бог – не государственный обвинитель, советник юстиции третьего ранга. Бог – Любовь и Справедливость. Бог хочет, чтобы все спаслись. Его величайшая привилегия – милость.
Мы сталкиваемся с противоречием.
Бог жаждает всеобщего спасения, и в то же время – спасутся немногие.
Как примирить противоположности, глубоко определяющие конкретность Страшного Суда? Противоречие – правило благочестия. Библия пронизана противоречием между Иерусалимом и Вавилоном, званными и избранными, пятью разумными и пятью неразумными девами, между мытарём и фарисеем, проклятыми и благословенными, Богом и Мамоной.
Человек, встречая в своём мышлении и существовании друг друга парализующие явления, ищет их преодоления в теории или практике. Противоречия Второго Пришествия Христа (спасутся все или меньшинство?) нашим умом и опытом неразрешимы. Истиной будет Страшный Суд, который начался от Рождества Христова!
Аминь.
Плаха Аллаха
На рынках Москвы и Подмосковья царит ислам. Почти везде за прилавками суетятся дочери Аллаха, правоверные поклонники пророка Магомета, который, в отличие от Христа, охотно занимался коммерцией и вкупе с напарниками, когда было нужно, безжалостно грабил торговые караваны.
Магомет родился в 570 г., спустя шесть веков после Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Семья была знатная, но бедная; жили в Мекке. Мальчик на всю жизнь остался неграмотным, не умел ни читать, ни писать. Говорили, будто он был подвержен галлюцинациям, страдал эпилепсией. В двадцать четыре года Магомет разбогател, женился на сорокалетней вдове-купчихе. Потом любимая супруга умерла, и будущий основатель новой мировой религии завёл ещё не одну жену, самой младшей едва исполнилось девять лет. Пошли дети… Магомет долго воевал с соседними арабскими племенами, которые не желали признать в нём посланника Бога. Помер он на шестьдесят втором году жизни, и, по убеждению своих последователей, несомненно, угодил в рай, где пышнобёдрые девы с большими серыми глазами и прекрасным цветом лица среди изобилия сочных фруктов, нежного журчания фонтанов, испарения благовоний ублажают под музыку на мягких ложах самого пророка и его отважных друзей.
При жизни Магомет вращался не только в обществе арабов, но встречался с евреями и представителями различных христианских сект, которые искали защиты от преследований. И хотя он никогда не открывал Библию – «вопрос о существовании доисламского перевода Библии на арабский язык должен быть, безусловно, отрицательным» (Г.Э. фон Грюнебаум, «Классический ислам», М., 1988) – обитатель горячих песков достаточно был наслышан о содержании Ветхого и Нового завета. Правда, сведения эти были неполны, подчас карикатурны, да и попадали к Магомету через искривлённое богопонимание еретиков. Тем не менее в душу Магомета просочились азы христианства: милосердие, подавление эгоизма, богобоязненность, праведность. Зрелый муж, не копаясь в догматических тонкостях, различиях между иудаизмом и учением Христа, ощутил в себе призвание нести свет благородных истин запылённым грехами жителям пустыни. Он почувствовал себя дыханием Аллаха и в пятьдесят два года произнёс перед роднёй и ближними первую проповедь. Оратор сетовал на притеснение бедных, нечестность, безразличие к высшим запросам, был, очевидно, проникнут мыслью о тщете земного величия и бренности материального богатства. (Не спрашиваем о том, какое всеохватывающее религиозное чувство владело Магометом, когда он резал торговые караваны из Сирии.)
Магомет жарко проповедовал, но, поскольку ничего не писал, его вдохновенные выступления «стенографировал» на обрывках кожи, камнях, клочках бумаги один из его учеников. Впоследствии пламенные речи пророка сброшюровали в книгу под названием «Коран». Она состоит из 114 сур, т.е. отделов, глав. Из откровений Магомета вывели необходимость для каждого мусульманина соблюдать молитву, милостыню, пост, плюс совершить хотя бы раз в жизни хадж – паломничество в Мекку (если позволят финансы). Теперь исламисты молятся в день пять раз. Единожды в году у них рамадан – пост, длиною в месяц. Постятся пока солнце на небе, ночью же подкрепляют себя пищей. Почитают не субботу, как евреи, не воскресенье, как христиане, а пятницу. В сей благословенный день, сняв обувь у входа, они все на коленях в мечетях, где нет никаких икон, никаких украшений за исключением изысканных арабесок на стенах, каллиграфически выполненных цитат из Корана.



