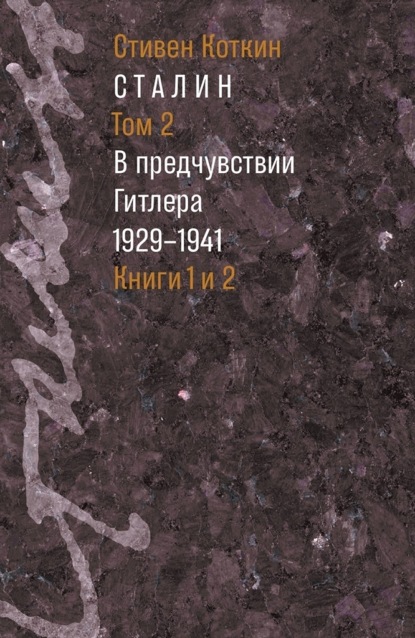
Полная версия:
Сталин. Том 2. В предчувствии Гитлера. 1929–1941. Книги 1 и 2
Сталин время от времени страдал от головокружений и воспаления нервов, и врачи подтвердили диагноз «неврастения» [274]. В его истории болезни за 1930 год, подписанной Ушер-Лейбом (Львом) Левиным, главным кремлевским врачом, в свое время лечившим Ленина, содержится оценка жилищных условий правителя («хорошие»), питания («хорошее»), труда («умств[енный], ответств[енный], интересн[ый], неопред[еленное] к[оличест]во часов в день»), употребления алкогольных напитков («редко») и курения («много»). Также отмечены перенесенная Сталиным аппендэктомия, от которой у него остался шрам, и болезни прежних лет (боли в груди, грипп, полиартрит, хронический ринотонзиллит, кашель). Внешний вид Сталина описывался как «усталый»; его печень и селезенка не были увеличены. Он якобы часто страдал от болей в мышцах левого плеча, которые постепенно атрофировались в результате контузии в детском возрасте. На юге у Сталина снова начались обычные для него боли в суставах и мышцах, и он прошел курс лечения серными ваннами в Мацесте под Сочи, оказывавшими на него чудотворное действие. «После приема ванн поехали с К. Е. Ворошиловым на прогулку, пили холодную углекислую воду, – вспоминал врач Сталина Иван Валединский. – После этой прогулки Сталин заболел горловой, так называемой фолликулярной ангиной с налетами и пробками». У него поднялась температура до 39 градусов, она спала только через четыре дня. После этого он стал жаловаться на боли в левой ноге. Валединский в течение трех недель ежедневно навещал своего пациента, причем диктатор, ценивший его общество, беседовал с ним на самые разные темы: о трудовой дисциплине, колхозах, об интеллигенции. В прощальный визит Валединского Сталин спросил, как отблагодарить его. «Я попросил помочь мне переменить квартиру, которая представляла собой бывшую купеческую конюшню, – вспоминал доктор. – Он улыбнулся после этого разговора. Когда я вернулся в Москву, мне позвонили из ЦК и сообщили, что мне покажут „объект“, который оказался квартирой из пяти комнат» [275].
Сталин весьма дорожил отдыхом на Черном море. 13 августа 1930 года он сообщал в Москву Молотову: «PS. Помаленьку поправляюсь». Ровно месяц спустя он писал: «Я теперь вполне здоров» [276]. Но, как и всегда, работа не прекращалась и на отдыхе, и Сталин ежедневно получал шифрованные телеграммы, а 8–12 раз в месяц – большие пакеты с более объемными документами. Шло закрепление многих масштабных перемен в стране и во власти, которые он инициировал зимой и весной [277]. Штат ОГПУ еще более увеличился [278]. Как ни странно, год выдался удачным для сельского хозяйства и неудачным для промышленности. Производство мяса и молока резко сократилось, однако урожай зерна, в итоге составивший 77,2 миллиона тонн, оказался на тот момент лучшим в советской истории [279]. Благодаря тому, что сельскохозяйственные кооперативы, прежде занимавшиеся сбытом крестьянской продукции, превратились в заготовителей хлеба, а машинно-тракторные станции упростили сбор урожая, режим заготовил ни много ни мало 22 миллиона тонн зерна по государственным ценам. (Остальное крестьяне съели сами или продали на рынке [280].) В то же время в июле – сентябре 1930 года сократилась выработка в важнейших металлургической и топливной отраслях, что поставило под удар промышленность в целом. Не хватало рабочих рук, на железных дорогах образовывались пробки, не снижались темпы инфляции. Вопиющее невыполнение планов по производству тракторов и массовый забой скота заставляли усомниться и в будущем сельского хозяйства.
Уже летом и осенью 1930 года, когда такие светила, как британский писатель-фантаст Г. Уэллс, превозносили пятилетний план как «самое важное, что есть в современном мире», «бесплановость» советского планирования была выявлена путем проницательного анализа на страницах меньшевистской эмигрантской газеты «Социалистический вестник», в которой указывалось, что задание максимально возможных количественных целей и понукание предприятий к достижению этих целей в условиях, когда одним это удастся, а другим нет и когда даже уровень успехов будет разным у разных предприятий, исключает какую-либо согласованность. Перевыполнение плана по выпуску гаек приведет только к расточительству, если болтов будет произведено меньше; избыточное производство кирпичей бессмысленно, если не хватает известки [281]. Работа «плановой» экономики становилась невозможной без накопления запасов для спекуляций, без обхода запретов и различных махинаций в теневой экономике, но в результате дефицит и коррупция приобретали хронический характер. «Мы покупаем материалы, которые нам не нужны, – отмечал начальник отдела снабжения Московского электромеханического завода, – чтобы обменять их на то, что нам нужно» [282]. Из-за отсутствия легальных рыночных механизмов, контролирующих качество продукции, увеличивалась доля брака. Даже поставки на наиболее приоритетные промышленные предприятия могли содержать от 8 до 80 % брака при отсутствии альтернативных поставщиков, вследствие чего бракованные поставки с одного завода влекли за собой производственный брак на другом заводе [283].
Сталин был хорошо осведомлен об этих проблемах [284]. Но он почти ничего не понимал в системных дефектах, созданных им самим путем уничтожения частной собственности и легальных рыночных механизмов. Между тем бесчисленные региональные партийные аппараты погрязли в интригах. После того как из Западной Сибири поступил коллективный донос на Роберта Эйхе, Сталин писал Молотову (13 августа 1930 года), что Сибирь только что разделили на два региона – Западную и Восточную и что никто не жаловался на Эйхе, когда он руководил всей Сибирью. «Эйхе вдруг оказался „несправляющимся“ со своими задачами? Я не сомневаюсь, что здесь имеется грубо замаскированная попытка обмануть ЦК и создать „свой“, артельный крайком. Советую вышибить всех интриганов… и оказать полное доверие Эйхе» [285]. Запутанные интриги поблизости от места отдыха Сталина, в Закавказье, в которых принимали участие партийные боссы Грузии, Армении и Азербайджана, приводили Сталина в бешенство [286].
Кроме того, диктатор не спускал глаз с Михаила Калинина, пользовавшегося большой популярностью из-за своего крестьянского происхождения и роли церемониального главы государства (председателя ЦИКа) [287]. На заседаниях Политбюро Калинин время от времени позволял себе голосовать против Сталина (например, в случае закрытия столовой Общества старых политкаторжан). Орджоникидзе как глава партийной Контрольной комиссии получил из архивов царской полиции материалы о том, что Калинин, как и Ян Рудзутак, находясь в заключении, выдавал других товарищей из рядов подполья, которые тоже были арестованы [288]. После этого лица, обвиненные в принадлежности к сфабрикованной Трудовой крестьянской партии, в тюрьме давали показания о том, что намеревались включить Калинина в новое правительство. Молотов не решался обнародовать это признание. «Что Калинин грешен, – в этом не может быть сомнения, – утверждал Сталин (23 августа), стремясь сузить Калинину возможности для своеволия. – Обо всем этом надо обязательно осведомить ЦК, чтобы Калинину впредь не повадно было путаться с пройдохами» [289].
Проявляя заботу о своей личной власти, Сталин занимался и вопросом о финансировании индустриализации. «Нам остается еще 1–1,5 месяца для экспорта хлеба: с конца октября (а может быть и раньше) начнет поступать на рынок в массовом масштабе американский хлеб, против которого нам трудно будет устоять», – предупреждал он Молотова (23 августа). – «Еще раз: надо форсировать вывоз хлеба изо всех сил» [290]. Сталин требовал продавать хлеб, несмотря на то что мировые цены на зерно в 1929 году упали на 6 %, а в 1930 году – еще на 49 %. (Во многих странах скапливались запасы хлеба, эквивалентные его годовому экспорту.) При этом цены на промышленное оборудование оставались более или менее стабильными, вследствие чего в 1930 году для ввоза одного станка нужно было вывезти вдвое больше советского хлеба, чем в 1928 году [291]. «Найдутся мудрецы, которые предложат подождать с вывозом, пока цены на хлеб на междун[ародном] рынке не подымутся „до высшей точки“, – предупреждал он Молотова в письме от 24 августа. – Таких мудрецов немало в Наркомторге. Этих мудрецов надо гнать в шею, ибо они тянут нас в капкан. Чтобы ждать, надо иметь валютн[ые] резервы. А у нас их нет… Словом, нужно бешено форсировать вывоз хлеба» [292].
В итоге СССР вывез чуть более 5 миллионов тонн хлеба при средней цене всего 30 рублей за тонну (вдвое меньше, чем в 1926 году); это дало стране 157,8 миллиона инвалютных рублей, что немногим превышало 80 миллионов долларов [293]. Но если советский хлеб в 1928 году фактически не был представлен на мировом рынке, то еще до конца 1930 года доля Советского Союза на этом рынке превысила 15 % [294].
Сталин по-прежнему утверждал, что экономические проблемы в капиталистическом мире лишь усиливают зависимость Польши, Финляндии и Прибалтийских государств от империалистических держав, которые рассматривают эти страны как плацдармы для нападения на Советский Союз. На самом деле польское правительство втайне ответило отказом на настойчивые призывы украинского националистического движения в Польше напасть на Советский Союз, судя по всему, находясь под впечатлением от советских военных мероприятий на границе [295]. Тем не менее Сталин предупреждал Молотова о вероятных провокациях со стороны Польши и Румынии и о польской дипломатии. «Поляки наверняка создают (если уже не создали) блок балтийских (Эстония, Латвия, Финляндия) государств, имея в виду войну с СССР, – писал он 1 сентября 1930 года. – Чтобы обеспечить наш отпор и поляко-румынам, и балтийцам, надо создать себе условия, необходимые для развертывания (в случае войны) не менее 150–160 пехот[ных] дивизий, т. е. дивизий на 40–50 (по крайней мере) больше, чем при нынешней нашей установке. Это значит, что нынешний мирный состав нашей армии с 640 тысяч придется довести до 700 тысяч». В противном случае, полагал Сталин, «нет возможности гарантировать… оборону Ленинграда и Правобережной Украины» [296].
Логика заговора
Больше всего в доставлявшихся Сталину на юг пакетах было донесений ОГПУ о заговорах и соответствующих протоколов допросов. Были осуждены тысячи специалистов [297]. Сталин из Сочи инструктировал Молотова распространить среди членов ЦК новые «показания», выбитые из служащих двух ведомств (продовольственного треста и статистического управления). В тот же день, давая запоздалый и косвенный ответ на убийственную докладную записку Пятакова о состоянии государственных финансов, Сталин написал Менжинскому, потребовав от него отчета о «борьбе» со спекулянтами [298]. Также он писал Молотову: «…обязательно расстрелять десятка два-три вредителей» из наркомата финансов. Он хотел связать их с правыми, добавляя: «Нужно обязательно расстрелять всю группу вредителей по мясопродукту, опубликовав об этом в печати» [299]. «Правда» (3 сентября) прилежно сообщила об арестах видных специалистов. Затем начались и казни.
Частным образом Сталин признавал, что все это делается в воспитательных целях. «Между прочим, – писал он Молотову о процессе якобы существовавшего Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков), – не думают ли господа обвиняемые признать свои ошибки и порядочно оплевать себя политически, признав одновременно прочность Советской власти и правильность метода коллективизации? Было бы недурно» [300]. Присутствовало и желание найти козлов отпущения: 13 сентября он писал, что «вредители» из наркомата снабжения планировали «вызвать голод в стране, спровоцировать волнения среди широких масс и тем самым способствовать свержению диктатуры пролетариата» [301]. О расстреле 48 «вредителей рабочего снабжения» было объявлено в «Правде», а ОГПУ сообщало об одобрительном отношении к этим приговорам со стороны рабочих и о неодобрительном – со стороны интеллигенции («В царское время расстрелы тоже были, но это были единичные случаи, а теперь смотрят на людей, как на собак») [302]. Также Сталин составлял инструкции для процесса по делу Союза освобождения Украины с участием 45 подсудимых: писателей, богословов, филологов, школьных учителей, библиотекаря и медиков, – который был проведен в Харьковском оперном театре. «Мы не должны скрывать прегрешения наших врагов от рабочих, – писал он руководству Советской Украины. – Кроме того, пусть так называемая „Европа“ знает, что репрессии против контрреволюционной части специалистов, пытавшихся отравить и заразить пациентов-коммунистов, совершенно оправданны» [303].
Казалось, что вредителями кишит вся страна, включая и командование Красной армии: 10 сентября 1930 года Менжинский послал Сталину протоколы допросов, уличавшие Тухачевского и других высокопоставленных военных в заговоре против режима [304].
Тухачевский был снят с должности начальника штаба и отправлен командовать Ленинградским военным округом. Личность этого бывшего дворянина, вращавшегося среди особ из царского Генерального штаба, хотя сам он никогда не учился в Академии Генерального штаба, вызывала противоположные оценки. Многие говорили, что он «умный, энергичный, твердый, но подлый до последней степени – ничего святого, кроме своей непосредственной выгоды» [305]. На одном публичном мероприятии Тухачевский подвергся яростным нападкам («Вас за 1920 год вешать надо!!» – кричали ему, имея в виду поражение в советско-польской войне) [306]. Незадолго до данной отставки Тухачевский подал Ворошилову докладную записку на 14 страницах, в которой призывал резко наращивать объемы военного производства. Тухачевский указывал, что в современной войне невозможно победить без танков, авиации, химического оружия и воздушно-десантных войск, повышающих мобильность армии. Он требовал ежегодно выпускать не менее 50 тысяч танков и 40 тысяч самолетов (с тем, чтобы иметь в будущем 197 тысяч танков и 122 500 самолетов). Эта непрошеная программа вызвала у Ворошилова, который и без того тревожился из-за симпатии Сталина к Уборевичу, еще одному модернизатору, сильное неудовольствие.
По требованию Ворошилова новый начальник Генштаба Шапошников подверг докладную записку Тухачевского вивисекции. Сам Тухачевский не указывал желательных размеров постоянной армии, но, по оценке Шапошникова, она должна была иметь абсурдную численность в 11 миллионов человек, что составляло 7,5 % от населения СССР [307]. Нарком несколько недель не давал этим материалам хода [308]. Сразу же после публикации «Головокружения от успехов» с уничижительной критикой крайностей Ворошилов отослал записку Тухачевского вместе с убийственными комментариями Шапошникова Сталину, отмечая, что «Тухачевский хочет быть оригинальным и… „радикальным“» [309]. Сталин ответил: «Ты знаешь, что я очень уважаю т. Тух[ачевско]го, как необычайно способного товарища» – это было поразительное признание. Но и Сталин отмахнулся от «фантастического» плана Тухачевского, указав, что он составлен без учета «реальных возможностей хозяйственного, финансового, культурного порядка», и заключив: «„Осуществить“ такой „план“ – значит наверняка загубить и хозяйство страны, и армию. Это было бы хуже всякой контрреволюции» [310].
В письме Сталина Тухачевский назывался жертвой «модного увлечения „левой“ фразой», однако Менжинский в своем письме от 10 сентября 1930 года обвинял его в «правых» настроениях, заявляя, что тот стоит во главе военного заговора. Коллективизация спровоцировала некоторые колебания в Красной армии (хотя Ворошилов отрицал это), а Сталин обладал сверхъестественной склонностью усматривать идеологическое родство между правым уклоном в партии и царскими офицерами. Полицейские осведомители, проникшие в армейскую среду, доносили о пересудах, на основании которых ОГПУ арестовало двух преподавателей военной академии, близких к Тухачевскому [311]. Поначалу они давали расплывчатые показания, в которых упоминалась его любовница-цыганка (возможно, работавшая на иностранную разведку), но под давлением они начали «вспоминать» о возможных связях Тухачевского с правыми уклонистами, а затем заговорили и о заговоре монархистов и военных с целью захвата власти [312]. «Я доложил это дело т. Молотову», – писал Менжинский Сталину, спрашивая, что ему делать – немедленно арестовать всех высокопоставленных военных, чьи имена прозвучали на допросах, или дожидаться возвращения Сталина, что было чревато риском с учетом существования гипотетического заговора. Сталин ответил Менжинскому, чтобы тот ограничился «максимально осторожной разведкой» [313].
Если бы Сталин в самом деле верил в существование военного заговора, мог ли он приказать, чтобы с арестом заговорщиков не спешили, и еще на месяц остаться в отпуске вдали от столицы? Однозначно установить, что творилось у него в голове, невозможно. И все же представляется, что в его глазах наличие «заговора» вытекало не из фактов как таковых, а из марксистско-ленинской логики: критика коллективизации ipso facto означала поддержку капитализма; поддержка капитализма означала сговор с империалистами; борьба за дело империализма по сути означала организацию заговора с целью свержения советского режима, а подобный заговор не мог не подразумевать убийства Сталина, так как тот воплощал в себе строительство социализма.
Между тем в Германии 14 сентября 1930 года состоялись выборы, обернувшиеся сенсацией: национал-социалисты получили 6,37 миллиона, или 18,25 %, голосов и увеличили свое представительство в парламенте с 12 до 107 депутатов, став второй по величине партией в Рейхстаге после социал-демократов со 143 депутатами. Численность депутатов от коммунистов выросла с 54 до 77. «Правда» (16 сентября) назвала итоги голосования «временным успехом буржуазии», хотя и отмечала, что миллионы проголосовавших за нацистов отвергали существующий строй.
Сталина в тот момент, похоже, гораздо сильнее занимал ненавистный ему Рыков, по поводу которого он сетовал Молотову (13 сентября): «СНК [Совнарком] парализован водянистыми и по сути антипартийными речами Рыкова… Ясно, что так дальше продолжаться не может. Нужны коренные меры. Какие, – об этом расскажу по приезде в Москву». Однако ему не терпелось, и он снова писал из Сочи: «Надо прогнать… Рыкова и его компанию. Это теперь неизбежно… Но это пока между нами». 22 сентября Сталин призывал Молотова встать вместо Рыкова во главе правительства. «При такой комбинации, – указывал Сталин, – мы будем иметь полное единство советской и партийной верхушек, что несомненно удвоит наши силы». Сталин приказывал Молотову обсудить эту идею «в тесном кругу близких друзей» и сообщить о возражениях. Насколько известно, то же самое он писал и Кагановичу [314]. Также Сталин выказывал сильнейшее раздражение неисполнением директив центра, несмотря на пропаганду в прессе. В том же письме он предлагал создать «постоянную комиссию… с исключительной целью систематической проверки исполнения решений центра» [315].
Донесения о подслушанных разговорах давали Сталину понять, что население недовольно последствиями сплошной коллективизации, раскулачивания и ускоренной индустриализации – и это делало Рыкова особенно опасным: он был тем вождем, который мог сплотить разочарованных и приспособленцев. Более того, Рыков был не один: 16 сентября 1930 года на заседании Политбюро сталинский протеже Сырцов, глава Совнаркома РСФСР, выразил согласие с Рыковым, главой Совнаркома СССР, в отношении того, что в стране накапливаются нерешенные проблемы, и поддержал предложение Рыкова продавать такие дефицитные товары, как сахар, по рыночным ценам с целью стабилизировать государственные финансы [316]. Молотов сообщал диктатору, что на заседании Политбюро Сырцов выступил «с совершенно паническими правооппортунистическими заявлениями насчет того, что нельзя решить создавшихся трудных вопросов в хозяйстве мерами ГПУ» [317]. Несмотря на нетерпение Сталина, снять Рыкова, этнического русского родом из крестьян, работавшего еще с Лениным, занимавшего прежнюю должность Ленина и не желавшего играть роль оппозиции, было делом непростым [318].
24 сентября Сталин отправил протоколы допросов в ОГПУ с заявлениями о виновности Тухачевского Орджоникидзе. «Прочти-ка поскорее показания, – советовал он. – Материал этот, как видишь, сугубо секретный: о нем знает Молотов, я, а теперь будешь знать и ты. Не знаю, известно ли Климу об этом. Стало быть, Тух[ачев]ский оказался в плену у антисоветских элементов и был сугубо обработан тоже антисоветскими элементами из рядов правых… Возможно ли это? Конечно, возможно, раз оно не исключено… Видимо, правые готовы идти даже на военную диктатуру, лишь бы избавиться от ЦК, от колхозов и совхозов, от большевистских темпов развития индустрии». Мы снова видим здесь объективную «логику» заговора. Тем не менее концовка сталинского письма была двусмысленной: «Покончить с этим делом обычным порядком (немедленный арест и пр.) нельзя. Нужно хорошенько обдумать это дело» [319].
2 октября 1930 года Менжинский направил Сталину материалы допросов, касавшихся подпольной Промышленной партии. «ОГПУ. Т. Менжинскому. Только лично. От Сталина», – писал в ответ диктатор, уточняя, в чем именно заключается заговор, и изъявляя надежду на получение подтверждающих показаний, которые будут «серьезным успехом ОГПУ», если удастся их получить. Сталин либо поверил в сфабрикованное дело, либо сделал вид, что поверил, требуя от следователей Менжинского выяснить: «1. Почему отложили [иностранную военную] интервенцию в 1930 г.? 2. Не потому ли, что Польша еще не готова? 3. Может быть, потому, что Румыния не готова? 4. Может быть, потому, что лимитрофы [Прибалтийские государства и Румыния] еще не сомкнулись с Польшей? 5. Почему отложили инт[ервен]цию на 1931 г.? 6. Почему „могут“ отложить на 1932 г.?» К этому Сталин добавлял, что с признательными показаниями нужно ознакомить «рабочих всех стран»; «[мы] поведем широчайшую кампанию против интервенционистов и добьемся того, что парализуем, подорвем попытки к интервенции на ближайшие 1–2 года, что для нас немаловажно. Понятно?» [320]
Возглавить правительство?
Надя вернулась в Москву еще в августе. «Как доехала до места? – писал ей Сталин с нежностью (2 сентября 1930 года). – Напиши обо всем, моя Таточка. Я понемногу поправляюсь. Твой Иосиф». В следующем письме он просил ее прислать ему самоучитель английского [321]. 8 сентября он описывал ей сложный процесс лечения его зубов и посылал ей персики и лимоны из своего сочинского сада. Но между супругами что-то не ладилось. «…на меня напали Молотовы с упреками, как это я могла оставить тебя одного, – отвечала ему Надя (19 сентября). – Я объяснила свой отъезд занятиями, по существу же это конечно не так. Это лето я не чувствовала, что тебе будет приятно продление моего отъезда, а наоборот. Прошлое лето это очень чувствовалось, а это нет. Оставаться же с таким настроением, конечно, не было смысла… Ответь, если не очень недоволен будешь моим письмом, а впрочем, как хочешь. Всего хорошего. Целую. Надя». Сталин (24 сентября) отрицал, что ее присутствие было нежелательно («Скажи от меня Молотовым, что они ошиблись»), и уверял ее, что, хотя ему за день обточили восемь зубов, «я здоров и чувствую себя, как нельзя лучше». 30 сентября Надя писала, что ей пришлось сделать операцию на горле и она не один день пролежала в постели. 6 сентября она жаловалась: «Что-то от тебя никаких вестей… Наверное путешествие на перепелов увлекло… О тебе я слышала от молодой интересной женщины, что ты выглядишь великолепно, она тебя видела у Калинина на обеде, что замечательно был веселый и тормошил всех, смущенных твоей персоной. Очень рада» [322].
7 октября Молотов, Ворошилов, Орджоникидзе, Куйбышев, Микоян и Каганович, с которыми не было Кирова (находившегося в Ленинграде), Косиора (на Украине), Рудзутака и Калинина (оба уехали в отпуск и вообще не входили в ближний круг), в отсутствие Сталина встретились, чтобы обсудить его предложение о замене Рыкова Молотовым [323]. На следующий день Ворошилов писал в Сочи о том, что «я, Микоян, Молот[ов], Каганович и отчасти Куйбышев считаем, что самым лучшим выходом из положения было бы унифицирование руководства». Орджоникидзе тут не упомянут. Ворошилов добавлял: «…в данный момент, как… никогда еще раньше, на СНК должен сидеть человек, обладающий даром стратега». Эпизодические вмешательства Сталина в повседневную работу правительства не шли ей на пользу, и каким-то образом упорядочить их было бы полезно [324]. Может быть, они также полагали, что, если Сталину придется вникать в мелочи управления страной, это ограничит его диктаторскую власть, поскольку присматривать за партийным аппаратом придется кому-то другому. Ворошилов в своем письме признавал: «Самый важный, самый, с моей точки зрения, острый вопрос в обсуждаемой комбинации – это партруководство» [325].
Микоян в отдельном письме подтверждал, что поддерживает «единое руководство», «как это было при Ильиче». Каганович в своем письме Сталину от 9 октября оставлял решение за ним, отмечая: «…только благодаря вам основные главные стратегические маневры в хозяйстве, в политике определялись, будут и должны определяться вами, где бы вы ни были. Но лучше ли станет, если бы произошла перемена, сомневаюсь». Он заключал письмо словами о том, что это аргумент за назначение Молотова. Молотов в тот же день послал письмо с перечислением причин, по которым он не годится на эту должность, и призвал Сталина самому возглавить Совнарком, хотя и признавал, что от этого пострадают партийная работа и Коминтерн. Неудивительно, что Сталин решил оставить за собой партийный аппарат, благодаря которому он имел последнее слово в политических и кадровых вопросах, не обременяя себя повседневной работой в правительстве. Орджоникидзе из частных разговоров вынес уверенность, что Сталин в настоящий момент считал «неуместным» «полное (в том числе и внешнее, перед лицом всего мира) слияние… партийного и советского руководства». Орджоникидзе, пожалуй, вторая очевидная кандидатура на место Рыкова, соглашался со Сталиным, что того должен сменить Молотов. «Он [Молотов] выражал сомнения, насколько он будет авторитетным для нашего брата, – писал Орджоникидзе Сталину, – но это, конечно, чепуха» [326].



