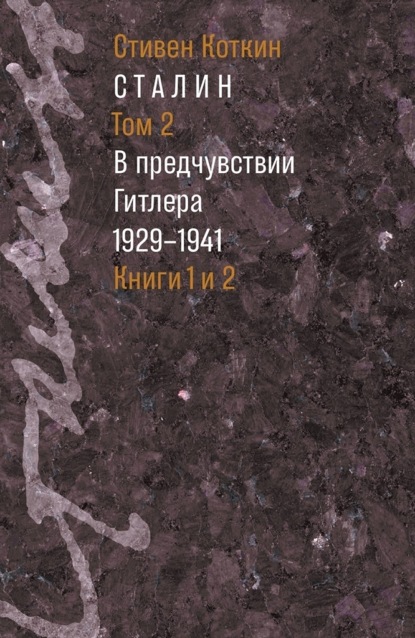
Полная версия:
Сталин. Том 2. В предчувствии Гитлера. 1929–1941. Книги 1 и 2
Япония не стала аннексировать Маньчжурию, как она поступила с намного более маленькими Тайванем и Корейским полуостровом, а вместо этого организовала провозглашение марионеточного государства Маньчжоу-Го («Маньчжурская страна») и 9 марта поставила во главе Маньчжурии – древней родины династии Цин – Генри Пу-И, низложенного последнего цинского императора (незадолго до того похищенного японцами) [591]. Десять дней спустя Карахан предложил гарантии советской сдержанности японскому послу Хироте, который втайне сообщал Токио, что тот может делать в Маньчжурии все что ему угодно [592]. Втихомолку советское правительство обещало признать Маньчжоу-Го, продать Японии КВЖД и начать переговоры о рыбной ловле, нефтяных концессиях и торговле, требуя, чтобы взамен Япония перестала спонсировать антисоветские эмигрантские группировки, но Токио выказывал безразличие. Советскому послу в Токио было приказано донести до японцев, что Москва не даст себя запугать [593]. Впрочем, выбор у Сталина был невелик. К тому моменту завершились переговоры по поводу пакта о ненападении с Финляндией (21.01.1932) и с Латвией (05.02), а также впоследствии (04.05) был подписан пакт с Эстонией, однако переговоры с Румынией зашли в тупик из-за аннексии Бессарабии, оспариваемой Советским Союзом [594]. Переговоры с Францией шли мучительно и увенчались успехом лишь поздней осенью [595].
Сталин получал свежие донесения, что Варшава не отказалась от попыток дестабилизировать Украину и по-прежнему готова совместно с Японией напасть на СССР [596]. Тем не менее переговоры с Польшей в конце лета принесли плоды в виде пакта, хотя он и был заключен всего на три года. Германские опасения оправдывались: Сталин уступил требованию Польши вставить в текст договора положение о нерушимости границ последней [597]. Однако Ворошилов в письме (12.03.1932) советскому послу в Берлине горько сетовал на то, что верховное командование Рейхсвера лишь по необходимости «с нами „дружит“ (в душе ненавидя нас)» [598]. Пакты с Польшей и Францией фактически положили конец неудачным попыткам СССР установить особые отношения с Германией, основанные на том, что обе страны были париями в Версальской системе. Неизменной целью этих усилий было предотвращение создания антисоветского блока, чего на данный момент и удалось добиться при помощи торгового договора с Берлином 1931 года и пактов о ненападении с Варшавой и Парижем 1932 года [599]. Тем не менее для советской разведки, одержимой навязчивой идеей борьбы с эмигрантами, мотивы действий иностранных правительств оставались загадкой [600]. К тому же у СССР не было союзников. Пакты о ненападении были заключены с врагами [601].
Призывы к отступлению
Во внутреннем докладе наркомата земледелия, поданном в начале 1932 года, отмечалось, что крестьяне сотнями и тысячами выходят из колхозов и в поисках пропитания наводняют промышленные города [602]. Политбюро сократило в городах нормы выдачи хлеба для лиц, получавших продовольствие по низшим (2-й и 3-й) категориям снабжения, – эта мера затронула 20 миллионов человек. Выдавать было нечего [603]. Сталин знал об этом. Но всякий раз, как он соглашался уменьшить задания по хлебозаготовкам, всякий раз, как он допускал, чтобы не были созданы стратегические резервы, и без того низкие нормы снабжения для рабочих приходилось снижать еще больше, а кроме того, прекращался вывоз зерна, что ставило под удар военно-промышленное развитие. Первая доменная печь на Магнитогорском металлургическом комбинате была с большим опозданием наконец задута в начале 1932 года – в страшные морозы и в ужасной спешке, – чтобы успеть к началу XVII партийной конференции. Были введены в строй два гигантских химических завода, первый алюминиевый завод и завод по производству шарикоподшипников, а с конвейера на Нижегородском автомобильном заводе скатились первые четыре грузовика. Но все это была только видимость. В новой доменной печи в Магнитогорске стал проседать купол, и ее пришлось полностью перестраивать. Промышленное производство весной 1932 года топталось на месте или даже сокращалось [604].
Стали слышны голоса недовольных. «Хотя и вы, т. Сталин, есть ученик Ленина, но ваше поведение не ленинское, – писала весной 1932 года в «Известия» Федоринцева, делегатка Солдатского сельсовета Центрально-Черноземной области. – Ленин учил – фабрики рабочим, землю крестьянам, – и что вы делаете? Не только землю, но и скотину, хату, скарб отбираете у середняков и бедняков. Если вы выгнали Троцкого и называете его контрреволюционером, то вы, т. Сталин, самый настоящий и первый троцкист и ученик не Ленина, а Троцкого. Почему? Нас в политкружке учили, что Троцкий предлагал усиленно строить тяжелую индустрию за счет мужика» [605]. Свой голос подал и Троцкий. «Отделенный от аппарата… Сталин – ничто, пустое место», – писал он в своем «Бюллетене оппозиции» (01.03.1932) в новом «открытом письме» партии, предсказывая, что «человек, который был вчера символом аппаратного могущества, завтра станет в глазах всех символом аппаратного банкротства» [606].
Режим неожиданно отказался от обобществления всего скота, с подачи наркома земледелия Яковлева издав соответствующий указ (от 26.03.1932), одобренный Сталиным. Функционеры наркомата интерпретировали его как отступление от коллективизации – кое-кто даже задавался вопросом, не вкралась ли в него опечатка, – но его цель была чисто тактическая: положить конец бегству из колхозов. Местные должностные лица не спешили возвращать крестьянам обобществленный скот [607].
Понятно, что всплеск спекуляций о здоровье диктатора, типичных для любой диктатуры, не был случайностью. «Ложные слухи о моей болезни распространяются в буржуазной печати не впервые, – констатировал Сталин в письме, опубликованном в «Правде» (03.04). – Как это ни печально, а против фактов ничего не поделаешь: я вполне здоров» [608].
Украинский партийный босс Косиор докладывал Сталину, что четверть лошадей в республике сдохла, а от выживших остались лишь «кожа да кости» [609]. ОГПУ доносило, что в Борисове (Белорусская ССР) толпа захватила хлебные склады, а несколько сотен женщин с детьми приняли участие в шествии к красноармейским казармам («среди бойцов и командиров наблюдались признаки сочувствия») [610]. Почти двойное снижение норм снабжения вкупе с мерами по повышению интенсивности труда спровоцировали стачки и стихийные митинги на ткацких фабриках в Ивановской области [611]. В окне одного цеха был вывешен плакат: «Пока голодающих рабочих Вичуги и Тейково увольняют за то, что они требовали хлеба, здесь, за задернутыми шторами склада, обжираются коммунистические функционеры и красная полиция ГПУ» [612]. Десятитысячная демонстрация разграбила здания парторганизации и милиции («Выбрасывайте коммунистов… из окон»). Сталин направил на место событий Кагановича, который отрядил местных партийных агитаторов говорить с рабочими и сам выслушал их жалобы [613].
Бастующие рабочие из Иванова выступали не против социализма, а лишь против его строительства за их счет и в своих бедствиях обвиняли в основном местных должностных лиц [614]. Они разделяли с советским режимом решительный антикапитализм, но этот антикапитализм наделял власть средствами бюрократического контроля над рабочими местами трудящихся, их жильем и питанием. Более того, против бастующих работала государственная монополия в печати, на радио и в публичной сфере. Но что самое главное, бастующие были пойманы в ловушку социалистического лексикона классовой борьбы [615]. Каганович в своем отчете для Сталина тоже прибегал к штампам, однако в отличие от рабочих режим, прибегая к большевистскому языку, черпал из него силу: в условиях «капиталистического окружения» Каганович мог заявить, что рабочие, критикуя действия властей, играют на руку империалистам. Посредством угроз он заставил большинство бастующих возобновить работу, после чего ОГПУ арестовало организаторов забастовок и должностных лиц, обвиненных в сочувствии рабочим [616].
Вынужденные уступки, частные извинения
В ходе первомайских парадов 1932 года советский режим впервые публично продемонстрировал успехи в деле механизации Красной армии, причем не только в Москве, но и в Ленинграде, Харькове, Киеве, Тифлисе и Хабаровске [617]. В тот же день дала ток первая очередь Днепрогэса, и этот запуск обошелся без осложнений. («Мы говорим с крыши величайшей большевистской победы», – надрывалось советское радио [618].) Однако ни танки, ни электричество не могли ни накормить, ни одеть рабочих [619]. 4 мая Сталин провел на Политбюро дискуссию, итогом которой стало снижение заданий по хлебозаготовкам и согласие на рекомендованную специальной комиссией закупку сотен тысяч голов скота в Монголии, Западном Китае, Иране и Турции [620]. 6 и 10 мая режим издал указы о сокращении задания по хлебозаготовкам для колхозников и оставшихся крестьян-единоличников с 22,4 до 18,1 миллиона тонн. В то же время задание для совхозов было поднято с 1,7 до 2,5 миллиона тонн, и новое общее задание было установлено на уровне 20,6 миллиона тонн. Это составляло всего 81 % от реальных поставок в 1931 году. В указах даже запрещалась дальнейшая ликвидация единоличных крестьянских хозяйств, приказывалось вернуть конфискованный скот и положить конец беззаконию и говорилось, что после выполнения заданий по сдаче государству хлеба нового урожая (в качестве крайнего срока устанавливалась дата 15 января 1933 года) крестьяне были вправе продавать излишки непосредственно потребителям на «колхозных рынках» [621].
Это происходило во сне или наяву? Еще совсем недавно, на партийном пленуме в октябре 1931 года, Микоян от имени Сталина решительно отверг все предложения разрешить сельскую торговлю по рыночным ценам после выполнения обязательств перед государством [622]. А теперь крестьянам разрешалось иметь коров (но не лошадей), обрабатывать свои семейные наделы и продавать значительную часть плодов своих усилий по рыночным ценам [623]. Вообще говоря, частная собственность на средства производства оставалась под запретом (семейные наделы нельзя было продавать и передавать по наследству). И все же выходило, что крестьянам нужно создавать стимулы в виде частного скота и продажи на рынке хотя бы части продукции их колхозов. Стимулы приходилось создавать и для рабочих в виде дифференцированных заработков [624]. Промышленным предприятиям, находившимся в собственности и под управлением государства, не позволялось вступать друг с другом в прямые рыночные отношения, но они делали это незаконно. «Необходимость избегать остановки производства, – объяснял один функционер из Магнитогорска, – вынуждает предприятие любыми возможными методами изыскивать другие источники требуемого сырья» [625].
Сюрпризы продолжались. Сталин вернул Шапошникова на важную должность в столице, назначив его начальником Военной академии имени Фрунзе, а 7 мая 1932 года даже письменно извинился перед Тухачевским за то, что осудил как «красный милитаризм» поданную им в январе 1930 года записку с нереальными задачами по перевооружению. «Ныне, спустя два года, – писал Сталин (копия его послания была адресована Ворошилову), – когда некоторые неясные вопросы стали для меня более ясными, я должен признать, что моя оценка была слишком резкой, а выводы моего письма – не во всем правильными». Сталин отмечал, что Тухачевский предлагал создать армию мирного времени не в 11 миллионов (согласно обвинениям Шапошникова), а в «восемь миллионов душ» и делал предположение, что создание шестимиллионной хорошо снабжаемой и хорошо организованной армии «нам более или менее по силам». (Численность советских вооруженных сил на тот момент все еще не превышала одного миллиона.) К этому он добавлял: «Не ругайте меня, что я взялся исправить недочеты своего письма [1930 год] с некоторым опозданием» [626].
Что дальше? Сталин долгое время запрещал направлять в деревню больше потребительских товаров, чтобы стимулировать сдачу крестьянами хлеба, но сейчас он согласился и на это [627]. Он даже пошел на импорт зерна («Уже куплено в Канаде дополнительно три миллиона пудов хлеба, – телеграфировал он 8 мая партийному боссу Восточной Сибири. – Свою долю получите») [628]. Впрочем, показательно, что Сталин не выступал в роли инициатора хотя бы каких-либо из этих уступок; к тому же от него неизменно исходили жесткие напоминания о необходимости безусловного выполнения установленных центром заданий по поставкам и о вероломных капиталистах [629]. В отличие от Ленина в 1921 году Сталин не желал допускать «отступления» или неонэпа [630]. В таком подходе отражалось его нежелание признавать любые свои ошибки, стремление сохранить свой авторитет первого лица системы и полная идеологическая неуступчивость [631].
Резкий контраст с СССР составляла Монголия, советский сателлит. Фанатики из Монгольской народной партии, подзуживаемые советниками из Коминтерна, объявили «классовую войну» «феодализму», конфискуя поместья, подвергая разграблению буддистские монастыри, убивая знатных людей и лам и принуждая скотоводов к коллективизации [632]. Погибла по крайней мере треть поголовья скота – главного богатства страны. Резко выросла инфляция, наблюдалась нехватка многих товаров. Весной 1932 года в обстановке слухов о том, что либо престарелый панчен-лама (находившийся в тибетском изгнании), либо японцы приведут войска для освобождения Монголии от коммунистической оккупации, четыре провинции на северо-западе страны были охвачены восстаниями, во главе которых стояли ламы [633]. Восстания застали Сталина врасплох («Последние телеграммы сообщали об успехах; соответственно, такое неожиданное и резкое ухудшение необъяснимо»). Из СССР в Монголию были направлены потребительские товары и десять истребителей, расстреливавших повстанцев с воздуха; всего погибло около 1500 человек. Перед лицом уничтожения повстанцы предавались убийствам и каннибализму [634]. 16 мая Политбюро осудило монгольскую партию за «слепое подражание политике советской власти в СССР». Властям Монголии было приказано отказаться от коллективизации кочевников, создать «всенародное правительство» и публично отказаться от некапиталистического пути развития в текущих монгольских условиях. Этот поворот был утвержден на пленуме Монгольской народной партии и окрещен «новым курсом» [635]. Это был полный откат, какого Сталин не потерпел бы у себя в стране.
В кольце паникеров
Могли ли эти вынужденные уступки спасти положение, оставалось неясно. «…поздно Сталин додумался торговать с колхозами, – утверждал, согласно донесению ОГПУ, один рабочий из Минска, – если бы он додумался об этом в 1929–1930 годах, куда лучше было бы, а теперь из этого ничего не выйдет, потому что у крестьян ничего нет, все уничтожено» [636]. Общесоюзных запасов продовольствия и фуража хватило бы примерно на месяц, причем на Украине, Северном Кавказе и Нижней Волге их было еще меньше. Напуганный Куйбышев 23 мая 1932 года написал синим карандашом сверхсекретную записку, в которой предлагал урезать нормы снабжения даже для самых приоритетных категорий получателей («особый список» и «список № 1»). Политбюро не пошло на это, но оно сократило снабжение Красной армии на 16 % и приняло решение об ускорении закупок хлеба в Персии [637]. Молотов отправился на Украину во главе комиссии, которая докладывала (26 мая), что «ситуация хуже, чем мы предполагали», и предлагала выдать населению еще больше посевного зерна, фуража и продовольствия в виде «займов». Сталин согласился на отпуск еще 41 тысячи тонн посевного зерна из стратегических запасов на Украине и в Белоруссии [638]. Предполагалось, что эти займы, объем которых по всему Союзу достиг 1,267 миллиона тонн за год, что было втрое больше выданного весной 1931 года, будут возвращены после сбора урожая 1932 года в пропорции 1:1 [639].
В конце мая Сталин, как обычно, отбыл на юг в отпуск, который оказался особенно продолжительным (до конца августа). «Количество запросов ПБ не имеет отношения к моему здоровью, – писал он из Сочи. – Можете слать сколько хотите запросов, – я буду с удовольствием отвечать» [640]. Он ответил отказом на предложение направить в Монголию красноармейские части. «Нельзя смешивать Монголию с Казакстаном [так в тексте] или Бурятией», – указывал он Кагановичу (4 июня), добавляя, что монгольское руководство «должно объявить, что главари повстанцев являются агентами китайских и, особенно, японских империалистов, стремящихся лишить Монголию свободы и независимости» [641]. Кроме того, он приказал вывезти из Улан-Батора документы, касавшиеся советско-монгольских отношений [642]. «Японцы, конечно (конечно!), готовятся к войне с СССР, – писал он в июне 1932 года Орджоникидзе, – и нам надо быть готовыми (обязательно!) ко всему» [643]. Он и в дальнейшем не ослаблял нажима. «Подают ли наши промышленники по плану танки, аэропланы, противотанковые орудия? – писал он Ворошилову (9 июня). – Посланы ли бомбовозы на восток? Куда именно и сколько? Поездка по Волге была интересная, скажу больше – прекрасная. Хорошая река Волга, черт меня побери» [644].
Сталин пребывал в переменчивом настроении. «Здоровье мое, видимо, не скоро поправится, – жаловался он Кагановичу в середине июня. – Общая слабость, настоящее переутомление – сказываются только теперь. Я думаю, что начинаю поправляться, а на деле выходит, что до поправки еще далеко. Ревматических явлений нет (исчезли куда-то), но общая слабость пока что не отходит» [645]. Его, как обычно, возили на машине лечить полиартрит в соляных ваннах в соседней Мацесте. Отдыхая на террасе или отправляясь на рыбалку, он рассказывал окружающим истории из революционного подполья и своей тюремной жизни. Он ухаживал за мандариновыми деревьями, ягодниками и виноградом и играл в бадминтон или кегли вместе с поваром против телохранителя. По вечерам он развлекался бильярдом, причем проигравшие, в том числе и он сам, должны были проползти под столом, а победители награждали их тумаками. Ужин и выпивка, затягивавшиеся до ночи, сопровождались цыганскими танцами и другими представлениями. Свет у Сталина обычно гас лишь в два или три часа ночи.
Почта, доставлявшаяся отдыхающему Сталину, приносила все более скверные известия. «Как Вам известно, из-за всеобщего голода крестьяне начали скапливаться» на железнодорожных станциях, – писал 10 июня 1932 года с Украины верный сталинец Григорий Петровский. «В некоторых случаях из сел на поиски хлеба уходят две трети всех мужчин» [646]. (Ягода в это время доносил о строительстве дачного поселка под Москвой для наркомата хлебозаготовок за счет государства [647].) Сталин сохранял твердость, предложив (18 июня) провести совещание партийных секретарей из главных хлебопроизводящих областей и республик по вопросу о «безусловном выполнении плана» по хлебозаготовкам [648]. Он приказал дать в «Правде» передовицу, в которой следовало подчеркнуть, что документы «устанавливают полную победу колхозов и совхозов в сельском хозяйстве, так как удельный вес единоличного сектора не составляет в этом году и 20 % [посевной площади]». К этому он добавлял: «В статье надо обругать грубо и резко всех лакеев капитализма, меньшевиков, эсеров и троцкистов, а также правоуклонистов, сказав, что попытки врагов трудящихся вернуть СССР на капиталистический путь окончательно разбиты и развеяны в прах, что СССР окончательно утвердился на новом, социалистическом пути, что решительную победу социализма в СССР можно считать уже завершенной» [649]. Передовица вышла в должный срок (26.06.1932). В тот же день Сталин согласился существенно сократить экспорт зерна в третьем квартале года [650].
В полете был испытан первый массово производившийся советский тяжелый бомбардировщик, четырехмоторный ТБ-3, но Ворошилов докладывал («Дорогой Коба!»), что выпущено всего четыре самолета, да и у тех наблюдаются неполадки с радиаторами [651]. Кроме того, он был вынужден сообщить Сталину о шокирующем числе катастроф при обучении летчиков: только с 5 по 20 июня разбились 11 самолетов, унеся жизни 30 членов экипажей. Ворошилов просил разрешения провести со Сталиным несколько дней на юге («…уже давно не сплю нормально»). Сталин ответил ему 24 июня: «Самое тревожное – аварии и гибель наших летчиков. Гибель самолетов не так страшна (черт с ними!), как гибель живых людей, летчиков. Живые люди – самое ценное и самое важное во всем нашем деле, особенно в авиации» [652]. Срыв диверсии в Маньчжурии также разозлил Сталина [653].
Региональные партийные боссы собрались в Москве 28 июня 1932 года, и Молотов зачитал им жесткое письмо Сталина (отправленное десятью днями ранее): «…на Украине, несмотря на неплохой урожай, ряд урожайных районов оказался в состоянии разорения и голода» [654]. Это второй известный по документам случай, когда Сталин употребил слово «голод» [655]. Молотов и Каганович одобрили только небольшое снижение заданий по хлебозаготовкам [656]. Сталин в двух телеграммах (от 1 и 2 июля 1932 года) срывал злобу на украинском руководстве (называя его «демобилизаторами») и приказал обоим своим главным подручным присутствовать на грядущем совещании украинских партийных секретарей [657]. На этом совещании (6–9 июля) Косиор (член союзного Политбюро) указывал, что в некоторых регионах уже начался голод, а глава украинского правительства Влас Чубарь (кандидат в члены союзного Политбюро) предлагал Молотову и Кагановичу лично ознакомиться с ситуацией на местах [658]. Впоследствии Каганович писал Сталину, что «все члены [украинского] Политбюро… высказались за снижение плана», но «мы категорически отклонили пересмотр плана» [659].
А затем 24 июля Сталин пустил их труды насмарку. «Наша установка на безусловное исполнение плана хлебозаготовок по СССР совершенно правильна, – писал он Кагановичу и Молотову. – Но имейте в виду, что придется сделать исключение для особо пострадавших районов Украины. Это необходимо не только с точки зрения справедливости, но и ввиду особого положения Украины, общей границы с Польшей и т. п.» [660] На следующий день он снова попытался обосновать изменение своей позиции, заявив, что во время совещания украинских партийных секретарей не хотел «сорвать хлебозаготовки». Как Каганович и Молотов восприняли эту смену курса, не известно. Сталин делал ставку на урожай, виды на который, как он писал, «выяснятся (уже выяснились!) как безусловно хорошие по СССР». Однако поступавшие прогнозы по урожаю были завышенными, а Сталин оставался глух ко всему, что он не желал слышать [661].
Посевная площадь заметно сократилась. Не хватало ни тягловой силы, ни семенного зерна, ни фуража. Весенний посевной сезон выдался коротким, а пшеница, посеянная в конце мая и позже, всегда дает более низкие урожаи и более чувствительна к августовским дождям, а они на этот раз начались уже в первых числах месяца и оказались особенно сильными. Значительная часть посевов пшеницы пострадала от ржавчины, что стало неприятным сюрпризом для должностных лиц, не сумевших распознать эту болезнь [662]. Деморализованные крестьяне, силком загнанные в колхозы, вели молотьбу и удобряли поля спустя рукава и проявляли безразличие к обобществленному скоту [663]. Ворошилов, получивший отпуск, 26 июля писал Сталину о том, что по пути на юг он видел «тяжелую картину безобразной засоренности хлебов [сорняками]» на Северном Кавказе.
Судя по всему, нарком обороны не выдерживал возложенного на него бремени, сетуя, что «при виде наших военных кадров любой станет мизантропом», и добавляя: «Я не могу пожаловаться… что они мало и нерадиво работают. Наоборот, все работают до поту и одурения, а толку пока мало» [664]. Но Сталин не ослаблял нажима. «Шесть бомбовозов для Даль[него]вост[ок]а – пустяк, – отвечал он (30.07). – Надо послать туда не менее 50–60 ТБ-3. И это сделать надо поскорее. Без этого оборона Дальвоста – пустая фраза» [665].
Согласно докладу ОГПУ для «Центрального Комитета» (от 01.08.1932) потребность в винтовках была обеспечена всего на 85 %, в станковых пулеметах – на 68 %, в ручных гранатах – на 55 %, в револьверах – на 36 %, в модернизированных гаубицах – на 26 %, в 107-мм снарядах – на 16 % и в 76-мм снарядах – на 7 %. Лишь треть запланированных 150 дивизий можно было оснастить полностью [666]. Тем не менее в тот же день Политбюро утвердило предложение Куйбышева сократить капитальные вложения на целых 10 % – и еще сильнее в тяжелой промышленности. Орджоникидзе взорвался. Каганович пытался его успокоить («Финансовое положение требует этого»), в то же время ясно дав понять, что Сталин согласен с этим решением («Мы писали нашему главному другу, и он счел абсолютно правильным и своевременным сократить [инвестиции]») [667]. В середине августа еще один китайский командир, оказывавший сопротивление японцам, перешел на советскую территорию, но японская армия шла за ним по пятам. Военный министр в Токио якобы едва удержался от нападения на СССР [668].
Летний кошмар
В Сочи потоком шли телеграммы, письма и донесения с известиями о массовом падеже лошадей, массовых проблемах со сбором урожая, массовом голоде, массовом бегстве из колхозов и поразительной невозмутимости властей [669]. Эндрю Кэрнс, шотландско-канадский специалист по сельскому хозяйству, командированный лондонским Имперским рыночным советом в СССР с целью выяснить, могут ли западные фермеры почерпнуть что-нибудь из опыта советской коллективизации, с мая по август 1932 года сумел объехать Украину, Крым, северокавказские равнины и Поволжье и видел женщин, рвавших траву, чтобы сварить из нее суп. Он писал о городских столовых: «Когда рабочий кончает еду, к его суповой тарелке бросается толпа детей и одна-две женщины, чтобы вылизать ее и съесть оставшиеся рыбьи кости» [670]. На протяжении всего августа 1932 года анонимные передовицы в «Правде» метали громы по поводу кулацких «махинаций» и «спекуляций» зерном.

