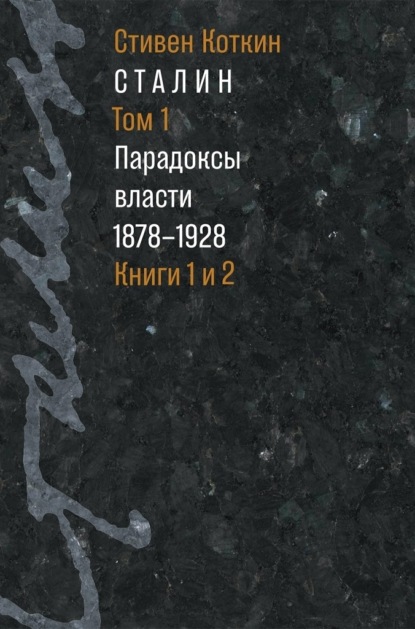
Полная версия:
Сталин. Том 1. Парадоксы власти. 1878–1928. Книги 1 и 2
Тыл страны разваливался. Обе воюющие стороны поставили под ружье около 2,5 миллиона человек, а потери каждой из них составили от 40 тысяч до 70 тысяч убитыми. (Кроме того, погибло около 20 тысяч китайских гражданских лиц.) Так как Япония не могла возместить свои потери, не исключено, что такие крупные победы, как под Мукденом, по сути, приближали Токио к поражению [351]. Но если у Николая II и возникало искушение продолжать войну, чтобы взять реванш, он не мог этого сделать. Провал японских попыток помешать движению по Транссибирской магистрали – одного из важнейших каналов доставки войск и вооружений к театру военных действий – по-прежнему окружен загадками [352]. Но крестьяне отказывались платить подати и громили помещичьи усадьбы, всего уничтожив или повредив 2000 из их числа. Министр внутренних дел уже в марте 1905 года объявлял, что по причине восстаний набор призывников стал невозможен в тридцати двух из пятидесяти губерний Европейской России [353]. Европейские кредиты, служившие для российского государства источником наличности, иссякли, вызвав угрозу дефолта [354]. 23 августа 1905 года (5 сентября по новому стилю) Россия и Япония при содействии президента США Теодора Рузвельта заключили в Портсмуте (Нью-Гэмпшир) мирный договор. Рузвельт, приглашенный к посредничеству японцами, выказал весьма дальновидное стремление к ограничению японского могущества на Тихом океане. Россию удачно представлял Витте, вернувший себе былой лоск и постаравшийся сделать все возможное в этой скверной ситуации [355]. Россия была вынуждена признать поражение, но ей не пришлось платить контрибуцию, а единственной ее территорией, отошедшей японцам, стала половина отдаленного острова Сахалин (служившего местом ссылки). Тем не менее это поражение вызвало шум во всем мире (куда более громкий, чем победа Эфиопии над Италией в 1896 году). Россия стала первой крупной европейской державой, над которой в ходе симметричных боевых действий одержала победу азиатская страна – причем на глазах у мирового журналистского корпуса. Давая типичную для той эпохи оценку, один наблюдатель объявил эту победу «небелого народа над белым народом» ни много ни мало как «важнейшим событием, случившимся или способным случиться при нашей жизни» [356].
Левая фракционность
Японский военный атташе в Стокгольме мешками раздавал деньги всевозможным политическим противникам царизма, проживавшим в европейском изгнании, но выражал серьезное разочарование. «Все эти так называемые оппозиционные партии – тайные организации, в которых невозможно отличить противников режима от русских агентов», – доносил атташе своему начальству, добавляя, что все революционеры – или провокаторы? – скрываются под фальшивыми именами. В любом случае, его работа – разоблаченная охранкой благодаря перехвату писем – оказалась совершенно излишней [357]. Русские революционеры получали намного больше помощи от самого самодержавия. В то время как российская армия, главное орудие поддержание порядка в империи, находилась вне ее границ – ведя войну с Японией на землях Китая и Кореи, – русским революционерам не грозило участие в сражениях. Воинскому призыву подлежали даже женатые крестьяне старше 40 лет, однако подданные без постоянного места жительства и с криминальным прошлым могли невозбранно подбивать людей на восстания в родной стране.
27-летний будущий Сталин таким образом описывается в полицейском донесении (от 1 мая 1904 года):
Джугашвили, Иосиф Виссарионов, крестьянин села Диди-Лило, Тифлисского уезда и губ., родился в 1881 г., вероисповедания православного, обучался в Горийском Духовном училище и в Тифлисской Духовной Семинарии, холост; отец Виссарион, местожительство не известно, мать Екатерина проживает в г. Гори, Тифлисской губернии <…> Приметы: роста 2 арш. 4 ½ верш. [примерно 162 см], телосложения посредственного; производит впечатление обыкновенного человека [358].
Несмотря на то что его дата рождения (1878 год) и рост (167 см) были записаны неверно, этот человек, производивший впечатление «обыкновенного», был освобожден от воинской службы – благодаря чему получил возможность оказаться в самой гуще восстания 1905 года. Грузинская организация Российской социал-демократической рабочей партии направила его в Чиатуру, забытую богом дыру в Западной Грузии, где 3770 шахтеров и сортировщиков трудились на сотни мелких компаний, добывая марганцевую руду.
Чиатурские марганцевые залежи были открыты в середине XIX века отцом Витте, царским чиновником средней руки [359]. К 1905 году благодаря осуществленной Сергеем Витте интеграции России в новую мировую экономику, на эти частные шахты, в которых применялись кустарные методы работы, приходилось не менее 50 % мировой добычи марганца. Над «горизонтом» возвышались высокие груды извлеченной руды, которую ожидала промывка, – этим занимались главным образом женщины и дети – и вывоз в Германию и Англию, где марганец применялся при выплавке стали. Чиатура с ее заработками, в среднем составлявшими жалкие 40–80 копеек в день, обедами, присыпанными марганцевой пылью, и «проживанием» под открытым небом (зимой рабочие ночевали в шахтах) была, по словам одного очевидца, «настоящей каторгой» – за тем исключением, что трудились здесь не каторжники [360]. Даже по стандартам царской России Чиатура была краем вопиющей несправедливости. Тем не менее, когда рабочие восстали, царские власти призвали на помощь не только войска, но и ультраправых погромщиков, которые называли себя «священной дружиной», но были прозваны черносотенцами. В ответ на физическое насилие Джугашвили принял участие в преобразовании социал-демократических агитационных «кружков» в красные боевые дружины, называвшиеся «красными сотнями» [361]. К декабрю 1905 года пролетарские «красные сотни» при содействии юных радикалов-головорезов взяли под контроль Чиатуру, а соответственно, и половину мировой добычи марганца.
Лишь в предыдущем году Джугашвили призывал создать независимую Грузинскую социал-демократическую рабочую партию, не входящую в состав Всероссийской (имперской) социал-демократической партии, – что, вероятно, было отголоском его баталий с русификаторами в семинарии и в Грузии вообще. Однако грузинские социал-демократы отказывались от борьбы за национальную независимость, полагая, что, если им и удастся каким-то образом отделиться, Грузии все равно не стать свободной, пока не свободна Россия. Грузинские товарищи осуждали Джугашвили как «грузинского бундовца» и вынудили его к публичному покаянию. Будущий Сталин изложил свои взгляды в работе «Кредо» (февраль 1904 года), очевидно, отрекаясь от идеи об отдельной грузинской партии; 70 экземпляров этой работы были распространены в социал-демократических кругах [362]. Помимо юношеских романтических стихов и двух анонимных передовиц в «Брдзоле», впоследствии приписанных Сталину, «Кредо» было одной из первых его публикаций (оно так и не было найдено историками партии, впоследствии разыскивавшими произведения Сталина). За этим mea culpa последовала обширная статья на грузинском языке – которая, по сути, и заложила основы его репутации мыслителя, – написанная в сентябре-октябре 1904 года и озаглавленная «Как понимает социал-демократия национальный вопрос?». Джугашвили нападал на незадолго до того основанную партию социал-федералистов, требовавших в своем периодическом издании, выходившем в Париже, грузинской автономии как в Российской империи, так и в социалистическом движении. Джугашвили решительно отвергал идею об отдельных «национальных» левых партиях и саркастически отзывался о грузинском национализме [363]. В апреле 1905 года в брошюре, адресованной батумскому пролетариату, отмечалось:
Русская социал-демократия ответственна не только за русский пролетариат, но и за все народы России, стонущие под ярмом варварского самодержавия – она ответственна за все человечество, за всю современную цивилизацию [364].
Не Грузия, а Россия. Эпизод с «Кредо» стал поворотным пунктом.
В то же время в Чиатуре, занимаясь организацией массовых прямых действий, Джугашвили был в своей радикальной стихии – он участвовал в превращении едва ли не каждой шахты в поле боя между фракциями Социал-демократической партии, вызывая верных себе людей из тех мест, где ранее протекала его подпольная деятельность – особенно из Батума. Некоторые свидетели поражались теснейшей сплоченности его клики. Тем не менее рабочие Чиатуры избрали своим вождем не Джугашвили, а высокого, худощавого, харизматичного молодого грузина Ноя Рамишвили (г. р. 1881). Шахтеры отдали ему предпочтение в том числе и потому, что он подчеркивал, как высоко ценит «меньшевистская» фракция кавказских социал-демократов рядовых рабочих, вступивших в партию [365]. Джугашвили, хранивший верность большевистской фракции кавказских социал-демократов, обвинял своих соперников в пресмыкательстве перед рабочими [366]. Из Чиатуры он посылал проживавшему в европейском изгнании вождю большевистской фракции Владимиру Ленину сообщения о борьбе не на жизнь, а на смерть – но не с царским режимом, а с меньшевизмом [367].
Раскол на большевистскую и меньшевистскую фракции произошел двумя годами ранее, в июле 1903 года, на II съезде Российской социал-демократической рабочей партии в Лондоне (первом с момента проведения учредительного съезда в Минске в 1898 году, на котором присутствовало девять человек). В Лондоне, вне сферы досягаемости царской полиции, делегаты приняли устав и программу партии («Предпосылкой социальной революции является диктатура пролетариата»), но две яркие фигуры, Ленин и Мартов, не сошлись во взглядах относительно структуры партии. Конфликт начался с того, что Ленин предложил сократить редколлегию газеты «Искра» с шести до трех человек (Плеханов, Ленин, Мартов), что было разумным предложением, которое тем не менее вызвало возмущение среди делегатов (в протоколе собрания зафиксированы «угрожающие выкрики» и восклицания «позор!»). Однако источники разногласий лежали глубже. Все российские социал-демократы считали капитализм злом, с которым следует бороться, но марксизм утверждал, что история последовательно проходит ряд этапов, и большинство русских марксистов вслед за своим старейшим вождем Плехановым придерживались идеи о том, что социалистическая революция может восторжествовать лишь после того, как состоится «буржуазная революция» и капиталистическое развитие России ускорится. Согласно этой точке зрения русские рабочие должны были помочь слабой российской буржуазии в установлении конституционного строя с тем, чтобы спустя десятилетия рабочие могли одолеть капитализм и прийти к социализму. Но что, если бы рабочие оказались не способны к этой роли? Мартов ухватил суть, написав, что «примирение революционно-демократических задач с социалистическими» – то есть буржуазной революции и социалистической революции – «это проблема, которую судьба русского общества поставила перед русской социал-демократией» [368].
Вопрос о роли рабочих в историческом процессе уже привел к расколу среди немецких социал-демократов. Возникало впечатление, что у немецкого пролетариата развивается не революционное, а только профсоюзное сознание (и капитализм не собирался погибать) – эту ситуацию четко констатировал Эдуард Бернштейн, пришедший к выводу, что социалистам следует избрать путь постепенных шагов и эволюции и двигаться к социализму через капитализм, не ставя своей целью свержение капитализма. Карл Каутский, соперник Бернштейна, заклеймил его как марксистского «ревизиониста», утверждая, что социализм, а затем и коммунизм все равно невозможны без революции. В то же время условия, существовавшие при царизме, не позволяли применить «ревизионистский» подход Бернштейна в России, даже если бы таковыми были намерения Ленина – а они таковыми не были, – потому что профсоюзы и конституционное движение оставались запрещенными. Ленин восхищался Каутским, но шел дальше него, выступая за конспиративный подход, потому что Российская империя отличалась от Германии еще более строгими ограничениями свобод. В работе «Что делать?» (1902) Ленин предвещал революцию в том случае, если горстка «испытанных, профессионально-вышколенных не менее нашей полиции, революционеров» получит возможность ее организовать [369]. Его позицию осуждали как немарксистскую – и даже как бланкистскую, имея в виду француза Луи-Огюста Бланки (1805–1881), сомневавшегося в действенности массовых движений и предлагавшего совершить революцию усилиями небольшой группы заговорщиков, которым следовало установить временную диктатуру и прибегать к силе [370]. Впрочем, в некоторых отношениях Ленин просто отзывался на воинственность рабочих в Российской империи, проявившуюся, например, во время Первомайской демонстрации в Харькове в 1900 году – о которой он писал – и произошедших на следующий год кровавых стычек между рабочими и полицией в Обухове. Правда, Ленин временами как будто бы вслед за Бернштейном склонялся к мнению, что у рабочих, предоставленных самим себе, способно развиться только профсоюзное сознание. Но это делало его большим, а не меньшим, радикалом. Главное то, что Ленин стремился создать партию профессиональных революционеров, которая смогла бы одолеть хорошо организованное царское государство, избыточная репрессивность которого препятствовала обычной организационной работе [371]. Однако Ленину не удалось убедить других: на съезде в 1903 году, несмотря на то что среди его 51 делегата насчитывалось лишь четверо настоящих рабочих, идея Мартова – о том, что партийная организация обладает более широкими возможностями по сравнению с чисто «профессиональными» революционерами, – одержала победу с небольшим перевесом (28 голосов против 23). Ленин отказался признавать этот итог и объявил о создании фракции, которую назвал большевиками, потому что получил большинство голосов по другим, второстепенным, вопросам. Как ни странно, мартовское большинство допустило, чтобы их называли меньшевиками.
Обвинения, встречные обвинения – и недоразумения, – связанные с расколом 1903 года, продолжали порождать отзвуки на протяжении значительной части столетия. Охранка едва могла поверить своей удаче: социал-демократы ополчились друг на друга! Отныне социал-демократам приходилось не только заботиться о том, как избежать ареста, при одновременном соперничестве с такими представителями левого лагеря, как социалисты-революционеры (эсеры); теперь они должны были еще и вести борьбу с «другой фракцией» своей собственной партии во всех партийных комитетах как в империи, так и за границей, даже если им с трудом удавалось сформулировать причину разногласий между большевиками и меньшевиками [372]. Разумеется, сектантство среди революционеров было таким же обычным делом, как и супружеские измены. И все же раскольническая позиция Ленина вызвала гнев у его доселе близкого друга Мартова, как и у союзников последнего, поскольку они только что вместе с Лениным провели интригу, направленную на ограничение влияния еврейского Бунда в рядах российских социал-демократов (на социал-демократический съезд 1903 года было допущено только пять делегатов-бундовцев, несмотря на многочисленность еврейского пролетариата) [373]. И тут же – предательство. Мартов и его фракция отвергли ряд предложений о посредничестве. Доктринерская позиция Ленина, несомненно, включала и претензию на лидерство в движении, но раскол начался – и продолжился – по крайней мере в какой-то степени как личное дело. Внутрипартийная полемика ожесточалась с обеих сторон – сопровождаясь обвинениями во лжи и изменах.
После того как о расколе стало известно широким кругам, Ленин подвергся резкому осуждению. В 1904 году Роза Люксембург, революционерка родом из Польши, после этого не встречавшаяся с Лениным три года, объявила его идеи о партийной организации «воинствующим ультрацентрализмом». Троцкий, вставший на сторону Мартова, сравнивал Ленина с католическим аббатом и иезуитом Эммануэлем-Жозефом Сийесом – подозрительным по отношению к другим, фанатически преданным одной идее, проявляющим диктаторские наклонности под предлогом подавления якобы повсеместных мятежных настроений. Плеханов вскоре начал называть Ленина бланкистом. В свою очередь, Ленин, находясь в Женеве, прилежно работал над тем, чтобы привлечь к себе в союзники стратегически важное, многочисленное кавказское отделение Российской социал-демократической рабочей партии, и писал о «змеином коварстве» Центрального комитета партии (своих оппонентов). Он вполне мог добиться желаемого: в конце концов, многие члены ленинской фракции были высланы из европейской России на Кавказ, где они распространяли большевистское влияние. Будущий Сталин – пропустивший лондонский съезд 1903 года (в то время он находился в царской следственной тюрьме) – познакомился с Львом Каменевым, приверженцем ленинской фракции, в 1904 году в Тифлисе. Однако в январе 1905 года вождь грузинских марксистов Ной Жордания, вернувшись в Грузию из европейского изгнания, настроил большинство кавказских марксистов против Ленина, склонив их к меньшевизму. Джугашвили повздорил с Жорданией уже в ноябре 1901 года, когда выступал за небольшую партию, основу которой составляла бы интеллигенция. Сейчас он снова не пожелал идти за Жорданией, оставшись в большевистской фракции. Таким образом, для Джугашвили раскол тоже отчасти носил личный характер. В доктринальном плане позиция Ленина, предпочитавшего рабочим профессиональных революционеров, тоже больше соответствовала темпераменту Джугашвили и его представлениям о самом себе.
В конце концов на гипотетическое личное влияние Ленина неизбежно стали ссылаться как на причину выбора, сделанного молодым Джугашвили: будущий Сталин якобы уже долгое время издалека восхищался вождем большевиков. Но если он и ощущал на расстоянии потребность в преклонении перед Лениным, она притупилась после их первой встречи [374]. Она состоялась в декабре 1905 года на III съезде Российской социал-демократической рабочей партии в Таммерфорсе, в подвластной России Финляндии, куда Джугашвили прибыл в качестве одного из трех делегатов от кавказской фракции большевиков [375]. Ленин, живший в эмиграции в Швейцарии, лишь в ноябре 1905 года вернулся в Россию, предпочтя переждать большинство революционных событий того года. Джугашвили был почти на десять лет младше Ленина, которому в следующем году должно было исполниться тридцать шесть [376]. («Патриарх» среди всех делегатов, Михa Цхакая с Кавказа, был 39-летним.) Однако Джугашвили наблюдал на съезде партии, как провинциальные делегаты, включая и его самого, нападали на политические предложения Ленина, несмотря на разницу в возрасте, и как вождь большевиков уступал, объясняя это тем, что он был эмигрантом, утратившим связь со страной. «Я надеялся увидеть горного орла нашей партии, великого человека, великого не только политически, но, если угодно, и физически, ибо Ленин рисовался в моем воображении в виде великана, статного и представительного, – впоследствии вспоминал Сталин. – Каково же было мое разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека, ниже среднего роста, ничем, буквально ничем не отличающегося от обыкновенных смертных» [377]. (В работах Сталина 1906–1913 годов содержатся всего две цитаты из Ленина.) Разумеется, в конце концов Ленин стал незаменимым наставником Сталина, но прошло какое-то время, прежде чем этот грузин – как и почти все прочие представители левых сил – оценил ленинскую силу воли, способную изменять ход истории. В любом случае, пока будущие российские революционеры из социал-демократов яростно грызлись друг с другом по поводу сущности грядущей революции (будет ли она буржуазной или социалистической) и структуры партии (должна ли она быть массовой или «профессиональной»), в России уже начался стремительный распад царизма, делавший революцию неминуемой.
Распад и спасение
Пока Джугашвили организовывал в Чиатуре «красные сотни», 8 октября 1905 года – вслед за подписанием русско-японского мирного договора – Санкт-Петербург охватила всеобщая забастовка. В течение пяти дней по всей империи прекратило работу более миллиона рабочих, парализовав телеграф и железнодорожное сообщение. Власти не могли ни вернуть армию с полей сражений – после прекращения военных действий на Дальнем Востоке по-прежнему находилось более миллиона русских солдат, – ни использовать ее для наведения порядка в стране. Примерно 13 октября был создан Санкт-Петербургский совет в качестве комитета по координации забастовки; он просуществовал около пятидесяти дней, причем в течение двух недель его возглавлял Лев Троцкий, плодовитый автор и видный социал-демократ, недавно вернувшийся из изгнания [378]. 14 октября были оглашены предупреждения о репрессиях, а на следующий день власти на год закрыли престижный столичный университет. Представители истеблишмента, включая членов обширного семейства Романовых, заклинали Николая II пойти на политические уступки, чтобы преодолеть отчуждение режима от общества. Во всей Европе лишь в Османской империи, княжестве Черногория и Российской империи до сих пор отсутствовал парламент. Царь, которого призывали к изменениям, представлявшим собой посягательство на самодержавный принцип, и к созданию согласованно работающего правительства, писал своей матери, вдовствующей императрице датского происхождения: «…министры, как мокрые курицы, собирались и рассуждали о том, как сделать объединение всех министерств, вместо того, чтобы действовать решительно» [379]. Только что вернувшийся из Портсмута Сергей Витте, сторонник самодержавия, вновь оказавшийся в фаворе, спешил воспользоваться моментом, указывая царю, что у него есть два пути к спасению самодержавия: либо даровать стране конституцию и гражданские свободы, а прежде всего учредить правительство, состоящее из координирующих свою работу министров, либо найти кого-нибудь, кто мог бы подавить волнения [380]. 15 октября Николай II спросил наиболее доверенного из своих придворных, твердолобого Дмитрия Трепова, который был архисоперником Витте, сможет ли он, Трепов, недавно назначенный генерал-губернатором столицы, восстановить порядок без массовых жертв среди гражданских лиц. Трепов 16 октября ответил: «подстрекательство достигло уровня, при котором представляется сомнительным избежать кровопролития» [381].
Царь колебался. Он приказал составить проект манифеста об учреждении чисто совещательной Думы [382]. Судя по всему, он также предложил своему дяде, великому князю Николаю, взять на себя диктаторские полномочия и установить в стране военную диктатуру, на что последний ответил, что армия обескровлена войной на Дальнем Востоке и что если царь не согласится на выполнение предложенной Витте программы политических уступок, он, великий князь, застрелится [383]. 17 октября Николай II, осенив себя крестом, неохотно подписал обнародованный на следующий день Манифест об усовершенствовании государственного порядка, «дарующий» стране – как это называлось на языке самодержавия – гражданские свободы, а также двухпалатный законодательный орган. Его нижней палатой становилась Государственная дума, уже не являвшаяся «совещательным» органом, как первоначально предлагалось еще в феврале, и состоявшая из «выборных от народа»; хотя избирательное право предоставлялось очень узкому слою населения – более узкому, чем тот, который получил право голоса от абсолютистской Испании в ее городах Нового Света в 1680 году – тем не менее Дума имела законодательные полномочия. Право голоса предоставлялось всему мужскому населению страны в возрасте от двадцати пяти лет, за исключением солдат и офицеров, однако выборы осуществлялись посредством четырех коллегий выборщиков и голоса крестьян-общинников имели больший вес, чем голоса крестьян-одиночек [384]. В то же время верхней палатой законодательного органа становился российский Государственный совет – доселе главным образом церемониально-совещательный орган, состоявший из представителей элит, изображенных в 1903 году Ильей Репиным на огромной картине. Предполагалось, что консервативная верхняя палата станет умерять чрезмерно радикальные порывы Думы. Половину членов нового Государственного совета по-прежнему назначал царь из числа бывших министров, генерал-губернаторов, послов – то есть «почтенных старцев, седовласых или лысых, испещренных морщинами и нередко сгорбленных от старости, облаченных в мундиры, украшенные всеми их наградами», как описывал их один осведомленный свидетель. Другую половину выбирал ряд организаций: православная церковь, провинциальные собрания, биржа, Академия наук. При этом в США Семнадцатая поправка, предусматривающая прямые выборы сенаторов, была принята в 1911 году, а в Великобритании членство в палате лордов являлось наследственным [385].
Помимо этого, царь пошел и на куда менее драматичную, но не менее логичную уступку, впервые в истории страны создав единое правительство во главе с премьер-министром. Поручение обосновать потребность в кабинете министров и продумать его структуру получил заместитель министра внутренних дел Сергей Крыжановский, выступавший с критикой «разобщенности» российских министерств и их братоубийственной розни. Он предупреждал, что Дума – как и созванные в 1789 году во Франции Генеральные Штаты – станет влиятельным форумом. Чтобы совладать с законодательной властью, правительству следовало быть сильным и единым, если монархия не хотела для себя таких же последствий, как во Франции. Но министры призывали к созданию сильного правительства не только ради предполагаемой потребности обуздывать законодателей. Витте стремился воспроизвести в России прусскую модель, в рамках которой министр-президент имел полномочия – которыми так успешно пользовался Бисмарк, – контролировать все контакты между отдельными министрами и монархом [386].



