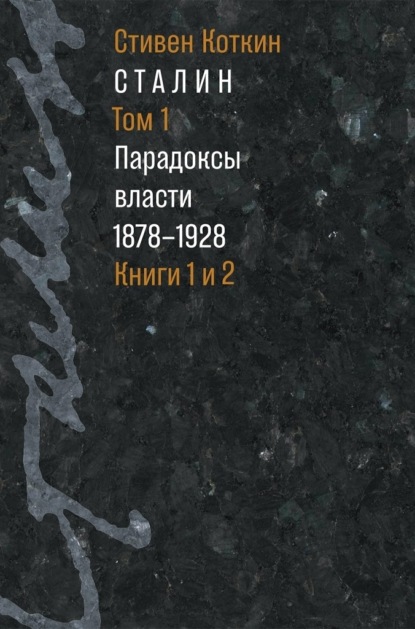
Полная версия:
Сталин. Том 1. Парадоксы власти. 1878–1928. Книги 1 и 2
Еще в 1790-е годы, когда в Пруссии – по площади составлявшей 1 % от России – насчитывалось 14 тысяч чиновников, в Российской империи их было всего 16 тысяч и всего один университет, основанный лишь несколько десятилетий назад, но на протяжении XIX века численность российского чиновничества возрастала в семь раз быстрее, чем численность населения, достигнув к 1900 году 385 тысяч человек, причем лишь за период после 1850 года она выросла на 300 тысяч человек. Правда, несмотря на то что многие из печально известных российских провинциальных губернаторов накопили большой административный опыт и навыки, находившийся у них в подчинении малопрестижный аппарат губернского управления по-прежнему страдал от крайней нехватки компетентных и честных служащих [253]. А некоторые территории испытывали плачевный недостаток управленческих кадров: например, в Ферганской долине, самом многолюдном округе царского Туркестана, служило только 58 администраторов и всего лишь два переводчика на как минимум 2 миллиона жителей [254]. Если в Германской империи в 1900 году на 1000 жителей в целом приходилось 12,6 чиновника, то в Российской империи – менее четырех, что было связано в том числе и с огромной численностью российского населения – 130 миллионов по сравнению с 50 миллионами в Германии [255]. Русское государство при всей внушительности его центрального аппарата было размазано по стране тонким слоем [256]. Управление губерниями в основном выпадало на долю местного общества, полномочия которого тем не менее были ограничены имперскими законами и организационный уровень которого мог быть самым разным [257]. Некоторые губернии, например Нижегородская, в этом отношении достигли больших успехов [258]. Другие – например, Томская – страдали из-за разгула коррупции. Некомпетентность больше всего процветала на самом верху системы. Многие подчиненные плели интриги с целью занять место своих начальников, что способствовало склонности ставить на высшие должности посредственностей, по крайней мере в качестве подчиненных высших уровней, причем особенно ярко это проявлялось при назначении царских министров [259]. Но несмотря на то, что в России отсутствовала система экзаменов для чиновников – аналогичная той, в соответствии с которой производилось назначение на должности в Германской империи и в Японии, – под влиянием административных потребностей при назначении на должности постепенно стали учитываться наличие университетского образования и опыт [260]. В ряды российского чиновничества начали набирать людей из всех социальных слоев и многие тысячи плебеев благодаря государственной службе получили дворянство: этот путь наверх впоследствии усложнился, но так и не был закрыт.
Вместе с тем в отличие от абсолютизма в Пруссии, Австрии, Великобритании или Франции, российское самодержавие продержалось очень долго. Прусский король Фридрих Великий (правил в 1772–1786 годы) называл себя «первым слугой государства», тем самым указывая на то, что государство существует отдельно от повелителя. На медали, розданные российскими царями своим чиновникам, наверное, ушел целый сибирский рудник серебра, однако самодержцы, ревностно охраняя свои прерогативы, отказывались признавать независимость государства от них. «Самодержавный принцип» пережил даже самые серьезные кризисы. В 1855 году, когда Александр II наследовал своему отцу, умирающий Николай I сказал сыну: «Мне хотелось, приняв на себя все трудное, все тяжкое, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое» [261]. Однако именно Николай в стремлении поживиться за счет распадающейся Османской империи втянул империю в дорогостоящую Крымскую войну (1853–1856). Британия возглавила союз европейских государств, выступивших против Санкт-Петербурга, и Николай II после потери 450 тысяч подданных империи был вынужден признать поражение, пока конфликт не перерос в мировую войну [262]. После поражения – это была первая война, проигранная Россией за последние 145 лет, – Александру II пришлось согласиться на проведение Великих реформ, включая и запоздалую отмену крепостного права. («Лучше, чтобы это было сделано сверху, а не снизу», – убеждал царь недовольных дворян, которых с трудом удалось задобрить огромными выкупными платежами, которые государство собирало для них с крестьян [263].) Однако самодержавные прерогативы самого царя остались в неприкосновенности. Александр II допустил беспрецедентно высокий уровень свободы в университетах, печати и судах, но как только российские подданные стали пользоваться этими гражданскими свободами, он дал задний ход [264]. Царь-освободитель, как его стали называть, не желал давать стране конституцию, потому что, как отмечал его министр внутренних дел, он был «убежден, что это принесло бы несчастье России и привело бы к ее распаду» [265]. Однако царь не позволял даже того, чтобы государственные законы распространялись на чиновников страны, поскольку это было бы ущемлением самодержавной власти [266]. Наоборот, учреждение ограниченного местного самоуправления, известная независимость судов и дарование некоторой автономии университетам, наряду с освобождением крепостных, в глазах Александра II делали усиление самодержавной власти еще более злободневной задачей. Это привело к тому, что в ходе Великих реформ был самым плачевным образом упущен момент, подходящий для создания парламента – сперва в 1860-е, а затем в 1880-е [267].
В России отсутствовал не только парламент, но и согласованно действующее правительство, которое тоже было бы посягательством на прерогативы самодержца. Правда, Александр II создал Совет министров для координации работы правительства, но эта попытка (1857) оказалась мертворожденной. На практике царь не пожелал отказываться от существования отдельных министерств, подчинявшихся не коллективному органу, а непосредственно ему и отчитывающихся перед ним лично; сами же министры совместно саботировали реформу государственного аппарата, не собираясь поступаться влиянием, которое давал им прямой доступ к самодержцу [268]. Заседания Совета, подобно любой аудиенции у императора, в основном сводились к попыткам предугадать «самодержавную волю» и не оказаться в оппозиции к царю, что было бы катастрофой. Лишь самым опытным функционерам время от времени удавалось выдавать собственные идеи за точку зрения царя [269]. Между тем определять политическую линию, даже в министерствах, продолжали придворные и «неофициальные» советники и работа российского правительства оставалась нескоординированной и проводившейся втайне – от чиновников. Царизм страдал от проблемы, которую он был не в силах решить: императивы самодержавия подрывали государство. Остроумцы давали весьма несложное определение сложившемуся политическому режиму: самодержавие, время от времени умеряемое цареубийствами. Охотничий сезон был открыт в 1866 году, когда состоялось первое из шести покушений на Александра II. В конце концов он был убит бомбой в 1881 году. Александр III пережил несколько покушений, жертвой одного из которых едва не стал и его сын Николай, будущий царь. В 1887 году, после провала покушения на Александра III, Александр Ульянов, член подпольной организации «Народная воля» – и старший брат Владимира Ульянова (будущего Ленина), которому тогда было семнадцать лет, – отказался просить о помиловании и был повешен. Несгибаемое самодержавие имело много врагов, включая Иосифа Джугашвили. Но самым опасным его врагом было оно само.
Модернизация как геополитический императив
К началу нового века в Российской империи насчитывалось уже не менее ста политических убийств. Затем их темп возрос, так как убийцы-террористы стремились к тому, что они называли дезорганизацией, – провоцируя полицию на аресты и кровопролитие, что, согласно извращенной логике террористов, должно было раскачать общество и поднять его на восстание. Следующим погибшим членом царской семьи стал московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович, младший сын Александра II (и дядя Николая II), в 1905 году убитый при взрыве бомбы внутри стен Кремля. Вплоть до того года политика в России, по сути, оставалась нелегальным делом: политические партии и профсоюзы были запрещены; наличие цензуры резко сокращало возможности для политического дискурса, помимо швыряния гранат в экипажи должностных лиц, которых при этом разрывало на куски. (Пальцы великого князя Сергея Александровича были найдены на крыше соседнего здания [270].) В ответ царские власти реорганизовали тайную полицию, создав новый грозный орган, Охранное отделение, которое террористы тут же окрестили охранкой. Разумеется, не только Россия, но и европейские династии (французские Бурбоны, австрийские Габсбурги) внедряли практику полицейского надзора, то есть использования института полиции в целях контроля над обществом; по сравнению с аналогичными европейскими учреждениями российская тайная полиция была не особенно одиозной [271]. Охранка осуществляла перлюстрацию почты посредством секретных «черных кабинетов» – созданных по образцу французских cabinets noires, – сотрудники которых вскрывали на пару письма, проявляли невидимые чернила и взламывали шифры революционеров (если те ими пользовались) [272]. Начальники российской полиции неизбежно сталкивались с тем, что их переписка тоже перлюстрировалась, и некоторые царские чиновники завели привычку отправлять третьим лицам письма, в которых они беззастенчиво льстили своим начальникам [273]. Несмотря на то что охранка работала бок о бок с традиционным российским Департаментом полиции и Отдельным корпусом жандармов, в обществе она так и не получила той известности, которая имелась у ее более обеспеченного французского аналога [274]. Однако тайна, окружавшая охранку, играла ей на руку.
Многие сотрудники охранки имели хорошее образование, составляя своего рода «полицейскую интеллигенцию», и собирали библиотеки революционных трудов с целью дискредитации взглядов революционеров [275]. В своей работе они использовали новейшие достижения зарубежных коллег, по примеру лондонской полиции взяв на вооружение книгу Э. Р. Генри об отпечатках пальцев и позаимствовав у немецкой полиции методы ведения картотеки [276]. Впрочем, борьба с террором оказалась грязным делом: иногда охранка сталкивалась с необходимостью позволять террористам осуществлять задуманные ими покушения с тем, чтобы полиция могла по возможности накрыть всю террористическую сеть [277]. Более того, многие осведомители охранки сами совершали политические убийства с тем, чтобы доказать революционерам, что им можно доверять и не лишаться возможности доносить о замыслах террористов. Царская полиция, участвуя в убийствах других царских чиновников, марала свою репутацию и обостряла трения между соперничающими политическими кланами. В результате руководство охранки само попало под полицейский надзор, хотя негодяев в его рядах нашлось меньше, чем тех, кто был убит своими собственными агентами-ренегатами [278]. Кроме того, охранка ощущала презрение со стороны царя Николая II, который почти никогда не удостаивал начальника охранки аудиенций [279]. И все же охранка, не имевшая почти никаких связей при дворе, была единственным органом государства, пустившим подлинные корни в обществе. Более того, несмотря на соучастие этого полицейского учреждения в делах террористов, с которыми оно должно было бороться, и его отчуждение от режима, который оно должно было защищать, охранка записывала на свой счет один успех за другим [280]. Ей удавалось очернять настоящих революционеров, объявляя их полицейскими агентами, и поддерживать те революционные элементы, возвышение которых шло во вред террористическим организациям. Сталина всю жизнь, а затем и после смерти преследовали слухи о том, что он был тайным полицейским агентом (хотя его многочисленные враги так и не доказали этих обвинений) [281]. Льва Троцкого тоже подозревали в сотрудничестве с полицией [282]. Как похвалялся один бывший начальник охранки, «революционеры <…> начали подозревать друг друга, и в итоге ни один заговорщик не мог доверять другому» [283].
Тем не менее умелое насаждение разногласий среди революционеров, по самой своей природе склонных к фракционности, и манипулирование террористами не позволяло ликвидировать самую серьезную уязвимость царского режима. Коренная проблема самодержавия заключалась не в том, что оно подвергалось политической атаке, и не в принципиальной несовместимости авторитаризма с современностью, а в том, что российское самодержавие сознательно делало ставку на архаичность. Царизм душил ту самую модернизацию, в которой он так отчаянно нуждался и которой он в какой-то степени занимался с целью выдержать конкуренцию с другими великими державами [284].
То, что мы называем модернизацией, не было чем-то естественным или автоматическим. Этот процесс включал насаждение ряда труднодостижимых атрибутов – массового производства, массовой культуры, массовой политики, – которыми обладали величайшие державы. Эти государства, в свою очередь, вынуждали другие страны либо проводить модернизацию, либо страдать от последствий ее отсутствия, включая военные поражения и возможное превращение в колонию. С точки зрения колонизаторов, колонии являлись не только геополитическим активом (в большинстве случаев), но и, по словам одного историка, «разновидностью демонстративного потребления в национальных масштабах» – показателями геополитического статуса или его отсутствия, что влекло за собой агрессивность в отношениях между соперничающими государствами, как могли засвидетельствовать те, на кого она была направлена [285]. Иными словами, модернизация была процессом не социальным – переходом от «традиционного» к «современному» обществу, – а геополитическим: речь шла о том, чтобы или любой ценой войти в круг великих держав, или пасть их жертвой [286].
В связи с этим можно упомянуть разработку методов производства стали (1850-е годы), прочного и упругого сплава железа с углеродом, вызвавшей революцию в оружейном деле и преобразовавшей судоходство, тем самым создав условия для возникновения глобальной экономики. Сталь нашла широкое применение, в частности, благодаря изобретению электромотора (1880-е годы), сделавшего возможным массовое производство: стандартизацию главных свойств товаров, разделение труда на сборочных линиях, замену ручного труда машинным и реорганизацию производственных процессов [287]. Благодаря этим новым способам организации производства выплавка стали выросла с полумиллиона тонн в 1870 году до 28 миллиона тонн в 1900 году. Однако 10 миллионов тонн приходилось на США, 8 миллионов – на Германию и 5 миллионов – на Великобританию, то есть почти вся сталь выплавлялась в этих нескольких странах. К этой картине можно добавить производство важнейших промышленных химикалий: искусственных удобрений, необходимых для повышения урожайности, хлора, применяемого как отбеливатель при обработке хлопка, и взрывчатки (нитроглицериновый динамит Альфреда Нобеля, 1866), использовавшейся в горном деле, при строительстве железных дорог и как орудие убийства. По мере того как некоторые страны успешно развивали современную промышленность, мир начал делиться на преуспевающие индустриальные страны (Западная Европа, Северная Америка, Япония) и обделенных поставщиков сырья (Африка, Южная Америка, большая часть Азии).
В число атрибутов современного конкурентоспособного государства также входили кредитно-финансовые учреждения, стабильная валюта и акционерные компании [288]. Однако во многих отношениях новая мировая экономика опиралась на труд крестьян в тропиках, поставлявших первичную продукцию (сырье), в которой нуждались промышленно развитые страны, и, в свою очередь, потреблявших значительную часть товаров, произведенных из их сырья. Коммерциализация вызвала переход от натурального к специализированному хозяйству – например, в Китае обширные земли, прежде использовавшиеся для натурального хозяйства, были заняты посевами хлопка для английских хлопкопрядильных фабрик, – что приводило к распространению рынков, позволявших добиться резкого прироста производства. Но это происходило в ущерб выращиванию прочих культур (дополнявших рацион крестьян) и сетям взаимных социальных связей (обеспечивающих выживание), вследствие чего рынки подрывали традиционные способы борьбы с периодическими засухами, носившими хронический характер. Воздушные потоки, порождаемые Эль-Ниньо (периодическим потеплением Тихого океана), разносят тепло и влагу во многие уголки мира, вызывая нестабильность климата и такие явления, вредящие сельскому хозяйству, как ливни, наводнения, оползни и лесные пожары, а также сильнейшие засухи. Итогом стали три волны голода и болезней (1876–1879, 1889–1891, 1896–1900), погубившие от 30 до 60 миллионов жизней в Китае, Бразилии и Индии. В одной только Индии от голода умерло 15 миллионов человек, что составляло половину населения Англии на тот момент. Подобных опустошений не было со времен «черной смерти», свирепствовавшей в XIV веке, и гибели коренных народов Нового света от болезней в XVI веке. Если бы такая массовая гибель населения – равнозначная голоду в Ирландии, умноженному на тридцать, – произошла в Европе, то она стала бы считаться ключевым моментом всемирной истории. Помимо воздействия коммерциализации и климата, свою роль сыграли прочие факторы: например, после того как в США лопнул железнодорожный «пузырь», произошло резкое сокращение спроса на важнейшие виды продукции тропических стран. Но в первую очередь колониальные власти усугубляли неопределенность, создаваемую рынком и климатом, неумелым и расистским правлением [289]. В 1889 году лишь в Эфиопии существовала проблема абсолютной нехватки продовольствия, а то, о чем идет речь, представляло собой не «естественный», а рукотворный голод, являвшийся следствием того, что мир был подчинен великим державам.
Силами модернизации можно было злоупотреблять самым прискорбным образом. В то время как Индия в 1870–1900 годы страдала от массового голода, вывоз зерна в Великобританию вырос с 3 миллионов до 10 миллионов тонн, обеспечивая пятую часть британского потребления пшеницы. «Случаи голода, – признавал в 1907 году один британский чиновник после 35 лет службы, – стали сейчас более частыми и более суровыми» [290]. Но ответственность за это несли сами британцы. Они соорудили в Индии четвертую по протяженности железнодорожную сеть в мире, чтобы извлечь максимум дохода из своей колонии, но железная дорога, вместо того чтобы облегчать жизнь местному населению, оставляла его без еды. Британский вице-король Индии лорд Литтон из принципиальных соображений боролся с попытками местных чиновников делать запасы зерна или вмешиваться в механизмы рыночного ценообразования. Он требовал, чтобы голодающие и умирающие получали еду лишь в обмен на труд, потому что, по его мнению, продовольственная помощь поощряла уклонение от работы (не говоря уже о том, что стоила государству денег). Голодающих женщин, пойманных при попытке наворовать в садах еды, клеймили, а иногда им даже отрезали носы или убивали. Толпы крестьян нападали на землевладельцев и расхищали запасы зерна. Британские должностные лица видели отчаяние населения и доносили об этом в метрополию. Как сообщалось в одном донесении из Индии, «Один сумасшедший выкопал и частично съел тело умершего от холеры, в то время как другой убил своего сына и съел часть мальчика». Китайские императоры из династии Цин противились строительству железных дорог в их стране, опасаясь, что они будут использоваться для колониального закабаления Китая, и это ограничивало возможность бороться с голодом. Тот становился причиной массовых крестьянских восстаний – войны Канудос в Бразилии, Боксерского восстания в Китае (на плакатах у восставших было написано: «Небо не дает дождей. Земля иссохла и потрескалась»). Но в тот момент крестьяне были не в силах сбросить иго формального или неформального империализма.
Рынки и мировая экономика сделали возможным прежде невообразимое процветание, но большей части мира эти блага оставались недоступны. Вообще говоря, новой всемирной экономике подчинялся не весь мир. Существовали обширные территории, не затронутые этими возможностями и процессами. И все же всемирная экономика могла ощущаться в качестве стихийной силы. Электричество вызвало резкий рост спроса на медь (из которой делались провода), втянув в мировую экономику Монтану, Чили и южную Африку и давая им шанс на процветание, но в то же время делая их население уязвимым перед скачками цен на мировых товарных рынках. Это влекло за собой мощнейшие последствия. Помимо эпидемий голода, крах банка в Австрии в 1873 году мог вызвать депрессию, которая охватила даже США, породив массовую безработицу, в то время как в 1880–1890-е годы Африку опустошали рецессии на других материках – а затем она была проглочена в ходе имперской гонки европейскими державами, вооруженными модернизацией [291].
Российская империя отвечала на вызов модернизации с немалым успехом. Благодаря текстильной промышленности она стала четвертой или пятой по величине индустриальной державой мира и была главным производителем сельскохозяйственной продукции Европы, будучи обязана этим достижением своим размерам. Но беда в том, что ВВП на душу населения в России составлял всего 20 % от британского и 40 % от германского [292]. В Петербурге находился самый пышный двор мира, но к тому моменту, когда родился будущий Сталин, ожидаемая продолжительность жизни на момент рождения в среднем по России составляла всего 30 лет, что было больше, чем в Британской Индии (23 года), но меньше, чем в Китае, и намного меньше, чем в Великобритании (52 года), Германии (49 лет) и Японии (51 год). Грамотность при Николае II колебалась в районе 30 %, что было ниже, чем в Великобритании в XVIII веке. Русский истеблишмент был хорошо знаком с этими сопоставлениями, потому что его представители часто бывали в Европе и сравнивали свою страну не с третьеразрядными государствами – которые мы бы назвали развивающимися странами, – а с первоклассными державами. Однако если бы российская элита была более скромна в своих амбициях, ее страна вряд ли могла бы ожидать серьезной передышки в начале XX века с учетом объединения и стремительной индустриализации Германии, а также консолидации и индустриализации Японии. Когда в дверь вашей страны внезапно стучит великая держава с передовым вооружением, грамотными и способными офицерами, мотивированными солдатами, а также отлаженными государственными институтами и инженерными училищами, вы не сможете закричать: «Нечестно!». Российские социально-экономические и политические достижения должны были сравниваться и сравнивались с достижениями ее самых передовых соперников [293].
Даже революционеры того времени осознавали стоящие перед Россией дилеммы. Николая Даниельсона, главного переводчика «Капитала» Маркса на русский язык, тревожило, что предпочтительный, по его мнению, путь для России – неспешное, органичное превращение в социалистическую страну посредством крестьянской общины (мелкомасштабной, децентрализованной экономической организации) – мог не выдержать давления со стороны международной системы, в то время как российская буржуазия тоже не была готова ответить на вызов. «С одной стороны, подражание медленному, трехсотлетнему процессу экономического развития в Англии может сделать Россию уязвимой перед ее колониальным подчинением той или иной из великих мировых держав, – писал Даниельсон в 1890-х годах в предисловии к русскому изданию «Капитала». – С другой стороны, стремительное, дарвиновское внедрение свободных рынков и приватизации „западного типа“ может привести к возникновению коррумпированной буржуазной элиты и обездоленного большинства – без какого-либо повышения темпов производительности». Казалось, что Россия стоит перед жутким выбором между ее колонизацией европейскими странами и новыми глубинами неравенства и нищеты [294].
Для царского режима на кону стояло многое, но велики были и издержки. Даже после уступок в виде Великих реформ российские правители по-прежнему ощущали, что фискальная сфера все сильнее ограничивает их международные стремления. Уже Крымская война опустошила государственную казну, но реванш, взятый в ходе Русско-турецкой войны (1877–1878) обошелся России еще дороже. В 1858–1880 годах дефицит российского бюджета составлял от 1,7 до 4,6 миллиардов рублей, что вызывало потребность в обширных зарубежных займах – которые Россия брала у своих геополитических соперников, европейских великих держав [295]. По причине коррупции значительная доля государственных денег избегала учета. (Отношение к государственным поступлениям как к частному доходу, вероятно, принимало самые вопиющие формы на Кавказе, этой черной дыре имперских финансов [296].) Правда, Россия избежала участи османов, которые превратились в финансового и геополитического клиента Европы, или династии Цин (1636–1911), параллельно российской экспансии удвоившей территорию Китая, но в итоге совершенно разорившейся и вынужденной заключить ряд глубоко неравноправных международных договоров, включая и навязанные Россией [297]. К началу XX века благодаря акцизам на сахар, керосин, спички, табак, импортные товары и, прежде всего, водку российский государственный бюджет обычно сводился с профицитом. (Душевое потребление алкоголя в Российской империи было ниже, чем где-либо в Европе, но государство владело монополией на его продажу [298].) Впрочем, в то же время бюджет российской армии десятикратно превышал государственные расходы на образование. При этом военное министерство неустанно сетовало на нехватку средств [299].

