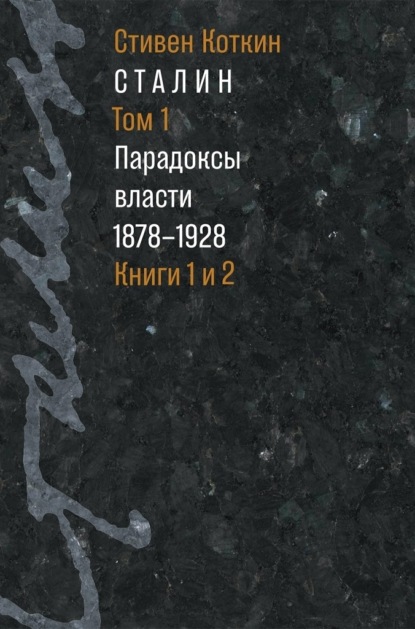
Полная версия:
Сталин. Том 1. Парадоксы власти. 1878–1928. Книги 1 и 2
Предпринятая Марксом ревизия французской социалистической мысли (Фурье, Сен-Симон) и британской политической экономии (Рикардо, Смит) основывалась на том, что германский философ-идеалист Георг Вильгельм Фридрих Гегель называл диалектикой, то есть гипотетической внутренней логикой противоречий, в рамках которой формы конфликтуют со своими противоположностями, вследствие чего двигателями исторического прогресса становятся отрицание и преодоление того, что было раньше (Aufhebung). Соответственно, капитализм вследствие присущих ему противоречий по законам диалектики будет побежден социализмом. В более широком плане Маркс полагал, что история проходит через ряд этапов – феодализм, капитализм, социализм и коммунизм (при этом строе в мире настанет изобилие) – и что ее главной движущей силой являются классы, такие как пролетариат, который уничтожит капитализм так же, как буржуазия якобы уничтожила феодализм и феодалов-землевладельцев. В теории Маркса пролетариат стал носителем вселенского гегелевского Разума, предполагаемым «вселенским классом», являющимся таковым из-за «вселенского характера своих страданий» – иными словами, не потому, что он трудился на заводах, а потому, что пролетариат был жертвой: жертвой, превратившейся в избавителя.
Маркс намеревался положить свой анализ общества в основу усилий по его изменению. В 1864 году вместе с разнородной группой влиятельных левых деятелей, включая анархистов, он основал в Лондоне международный орган, призванный объединить рабочих и радикалов всего мира и получивший название «Международное товарищество трудящихся», или «Первый интернационал» (1864–1876). К 1870-м годам деятели левого толка начали критиковать цель этой организации, поставленную Марксом, – «сосредоточить все средства производства в руках государства, то есть пролетариата, организованного как правящий класс», – как авторитарную, что повлекло за собой взаимные нападки и расколы. После того как Маркс в 1883 году умер в Лондоне (где он и был похоронен), различные социалистические и рабочие партии основали в Париже Второй интернационал (1889). Вместо «буржуазно-республиканской» «Марсельезы» французской революции 1789 года Второй интернационал избрал в качестве социалистического гимна песню «Интернационал», первая строка которого гласила: «Вставай, проклятьем заклейменный». Помимо этого, Второй интернационал выбрал для себя красное знамя, появившееся во Франции в противовес белому флагу династии Бурбонов и контрреволюционеров, стремившихся восстановить свергнутую монархию. Однако несмотря на французскую песню и символику, во Втором интернационале верховодили немецкие социал-демократы – верные последователи покойного Маркса. Главными соперниками немцев во Втором интернационале стали подданные Российской империи, многие из которых жили в Европе изгнанниками.
В Российской империи идея социализма пустила корни почти за полвека до появления пролетариата; своей феноменальной популярностью она была обязана самоанализу того слоя, который называл себя интеллигенцией. Он состоял из образованных, но разочарованных индивидуумов, первоначально происходивших из дворянства, но с течением времени все чаще оказывавшихся выходцами из простонародья, получившего доступ к среднему образованию и университетам. Русская интеллигенция взяла на вооружение ту же немецкую идеалистическую философию, на которую опирался Маркс, но без его тяжеловесного материализма, позаимствованного из британской политической экономии. Русские социалисты, организованные в маленькие кружки, отстаивали достоинство всех людей, обобщая собственное чувство уязвленного достоинства. Это движение возглавляли Александр Герцен и Михаил Бакунин, знакомые друг с другом выходцы из привилегированных слоев, жившие в середине XIX века. Оба они разделяли убеждение в том, что в России опорой для социализма может стать крестьянство с его институтом крестьянской общины [155]. Такие общины обеспечивали коллективную защиту от заморозков, засух и прочих бедствий посредством периодического перераспределения земельных наделов между крестьянскими домохозяйствами, а также иными способами [156]. Многие крестьяне не входили в состав общин, особенно на востоке страны (в Сибири), а также на западе и на юге (на Украине), где не было крепостного права. Но в центральных районах Российской империи произошедшее в 1860-х годах освобождение крестьян только укрепило власть общины [157]. Поскольку входившие в общину крестьяне не имели частной собственности как индивидуумы – ни до, ни после своего освобождения, – такие мыслители, как Герцен и Бакунин, считали крестьян империи урожденными социалистами, вследствие чего, по их мнению, социализм в России мог установиться еще до капитализма. Так называемые народники, вооружившись такими теориями, в 1860-х годах, после отмены крепостного права, отправились в русские села с целью помочь крестьянам выбраться из отсталости.
Народники торопились: в стране началось распространение капитализма, и они опасались, что получившие свободу крепостные превратятся в наемных рабов, а на смену помещикам-крепостникам придут эксплуататоры-капиталисты. В то же время считалось, что сильно идеализированному эгалитаризму сельской жизни угрожает появление кулаков, то есть богатых крестьян [158]. Но даже бедные крестьяне враждебно встречали самозваных наставников из большого мира. После того как избранная народниками тактика агитации не привела к массовому крестьянскому восстанию, некоторые из них обратились к политическому террору как к способу разжечь массовое восстание в городах (из чего тоже ничего не вышло). Однако прочие радикалы вместо крестьян стали возлагать свои надежды на зарождавшийся пролетариат, чему способствовало растущее влияние Маркса в России. Георгий Плеханов (г. р. 1857), отец русского марксизма, подверг критике народнический аргумент о том, что Россия может избежать капитализма благодаря якобы присущей ей врожденной тенденции (крестьянская община) к социализму. В 1880 году Плеханов эмигрировал в Европу (его изгнание растянулось на 37 лет), но его работы 1880-х годов – «Социализм и политическая борьба» (1883) и «Наши разногласия» (1885) – проникали в Россию, насаждая убеждение в том, что ни один исторический этап не может быть пропущен: только капитализм создает возможность для социализма и потому и в России перед социалистической революцией должна состояться «буржуазная революция», даже если пролетариату придется помочь буржуазии совершить эту революцию [159]. Именно так говорил Маркс. Впрочем, ближе к концу жизни Маркс, кажется, признал, что опыт Энгельса, на основе которого он делал свои обобщения, возможно, не является универсальным, что буржуазии, возможно, не присуща уникальная прогрессивность (в историческом плане) и что Россия, возможно, сумеет избежать полноценного капиталистического этапа [160]. К этой явной ереси Маркса привело то, что он полагался на суждения русского экономиста Николая Даниельсона, ставшего его доверенным лицом и снабжавшего его книгами о России. Тем не менее квазинароднические представления позднего Маркса о России не получили большой известности (на русском они были обнародованы лишь в декабре 1924 года). Марксистская критика народничества, исходившая от Плеханова, одержала интеллектуальную победу.
Этой победе способствовал сам Даниельсон, приняв участие в работе над русским переводом «Капитала», трехтомного главного труда Маркса, опубликованного в 1890-х годах и прочитанного многими людьми – включая и будущего Сталина. В 1896 году при издании третьего тома нерешительный русский цензор в конце концов признал «научный» характер «Капитала», тем самым дав разрешение на его продажу и выдачу читателям в библиотеках [161]. К тому моменту марксистская политическая экономия уже преподавалась в некоторых русских университетах, а на рубеже веков управляющий одной из московских текстильных фабрик, входивших в число крупнейших в империи, даже собрал у себя обширную марксиану [162]. В России к тому времени насчитывалось 1 миллион промышленных рабочих и более 80 миллионов крестьян. Но марксизм вытеснил народничество в качестве «ответа».
Начиная с тех же 1880-х годов марксизм распространялся и на подвластном России Кавказе. Частично он был воспринят через Россию от левых европейских движений, а частично – от неспокойной российской Польши, чье влияние ощущалось в Грузии благодаря полякам, отправленным в ссылку на Кавказ, а также грузинам, учившимся в царской Польше. Помимо этого за распространением марксизма в Грузии стоял конфликт поколений. Роль кавказского Плеханова сыграл Ной Жордания. Он родился в 1869 году в дворянской семье из Западной Грузии, учился в Тифлисской семинарии и вместе с другими, включая Сильву Джибладзе, тифлисского семинариста, давшего в 1884 году пощечину русскому ректору, в 1892 году основал «Третью группу» («Месаме-даси»). Их целью являлось противопоставление своей откровенно марксистской ориентации консервативному народничеству Ильи Чавчавадзе («Первая группа») и национальному (классическому) либерализму Георгия Церетели («Вторая группа»). Путешествуя по Европе, Жордания познакомился с Карлом Каутским, родившимся в Праге лидером германских социал-демократов, а также с Плехановым. В 1898 году по предложению Георгия Церетели Жордания стал редактором журнала «Квали» [163]. Под его руководством «Квали» превратился в первое легальное марксистское периодическое издание в Российской империи, выступавшее за самоуправление, развитие и грузинскую культурную автономию в пределах России (примерно такую же позицию занимали австрийские социал-демократы в многонациональном габсбургском государстве). Прошло немного времени, и марксистская литература – включая сто мимеографированных копий «Манифеста Коммунистической партии», переведенного на грузинский с русского, – стала подпольно доставляться в Тифлис, способствуя расширению круга молодых кавказских радикалов – таких, как Джугашвили [164].
Тифлис стал их организационной лабораторией. В этом городе мелких торговцев, носильщиков и ремесленников, окруженном неспокойной деревней, насчитывалось 9 тысяч зарегистрированных мастеровых, по большей части состоявших в артелях размером в один-два человека. Около 95 % его «промышленных предприятий» являлись мастерскими менее чем с десятью рабочими. Однако численность пролетариата в крупных железнодорожных депо и мастерских (открывшихся в 1883 году), а также на нескольких табачных фабриках и кожевенной фабрике Адельханова, составляла не менее 3 тысяч человек (до 12500 человек в Тифлисской губернии в целом). Тифлисские железнодорожные рабочие не выходили на работу в 1887 и 1889 году, а затем еще раз делали так на протяжении пяти дней в середине декабря 1898 года – эта крупная стачка была организована Ладо Кецховели и другими рабочими. Во время этих волнений, продолжавшихся целую рабочую неделю – с понедельника по субботу, – Джугашвили находился в семинарии [165]. Но благодаря Кецховели кружок семинаристов – совсем недавно, в мае 1898 года, оказавшийся в подчинении у Джугашвили, – расширился, приняв в свой состав около полудюжины рабочих из тифлисских железнодорожных депо и мастерских. Обычно он собирался по воскресеньям, в тифлисском районе Нахаловка (Надзаладеви), где не было ни тротуаров, ни фонарей, ни канализации, ни водопровода [166]. Джугашвили читал рабочим лекции о «механике» капиталистического строя и необходимости участия в политической борьбе за улучшение положения рабочих [167]. Через Ладо он познакомился с неистовым Сильвой Джибладзе, который, судя по всему, помог Джугашвили научиться вести агитацию среди рабочих и привел его в несколько новых «кружков» [168]. Кроме того, возможно, именно Джибладзе представил Джугашвили Ною Жордании.
Примерно в 1898 году Джугашвили явился к Жордании в «Квали», так же, как когда-то пришел к аристократу Чавчавадзе в журнал «Иверия» (в котором были напечатаны его стихи). Аристократ Жордания, любезный человек с обликом профессора, с виду совсем не похожий на радикала, впоследствии вспоминал, что его дерзкий юный посетитель сказал ему: «Я решил бросить семинарию, чтобы распространять ваши идеи среди рабочих». По утверждению Жордании, он устроил молодому Джугашвили экзамен на тему политики и общества, а затем посоветовал ему вернуться в семинарию и продолжить изучение марксизма. Этот снисходительный совет не нашел у Джугашвили отклика. «Я подумаю об этом», – якобы ответил будущий Сталин [169]. В августе 1898 года Джугашвили вслед за Ладо Кецховели все-таки вступил в «Третью группу» грузинских марксистов.
Формально «Третья группа» не являлась политической партией, которые были запрещены в царской России, но в марте 1898 года в частном деревянном домике на окраине Минска, небольшого города, находившегося в «черте оседлости», состоялся учредительный «съезд», на котором была основана марксистская Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) – будущая правящая партия Советского Союза, созданная по образцу аналогичной германской партии. Это была уже вторая попытка (из предыдущей попытки основать партию в Киеве ничего не вышло). Организационную поддержку Минскому съезду оказывал еврейский рабочий бунд («федерация»), основанный пятью месяцами ранее. На съезде присутствовало всего девять делегатов, включая лишь одного рабочего (вследствие чего некоторые делегаты возражали против того, чтобы будущая партия называлась «рабочей») [Этими делегатами были Борис Эйдельман (главный организатор), Степан Радченко, Арон Кремер, Александр Ванновский, Абрам Мутник, Казимир Петрусевич, Павел Тучапский, Натан Вигдорчик и Шмуэль Кац (единственный рабочий).] На 1898 год пришлась 50-я годовщина «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, и делегаты съезда, продолжавшегося три дня, приняли свой собственный манифест, беспощадно обличавший «буржуазию»; по мнению делегатов, его следовало переписать с целью дальнейшего распространения, и эта задача была поручена Петру Струве (г. р. 1870), сыну пермского губернатора и выпускнику юридического факультета Петербургского университета [170]. (Как впоследствии объяснял Струве, «самодержавие создало в душе, помыслах и навыках русских образованных людей психологию и традицию государственного отщепенства» [171].) Царская тайная полиция не знала о Минском съезде, но за большинством его делегатов уже была установлена слежка и вскоре многие из них были арестованы [172]. Владимир Ульянов, больше известный как Ленин, узнал о Минском съезде 1898 года, находясь в трехлетней ссылке в Восточной Сибири, куда его отправили после 15-месячного тюремного заключения за распространение революционных листовок и участие в заговоре с целью убить царя. Минский съезд оказался единственным дореволюционным съездом РСДРП, проведенным на территории Российской империи [173]. Но вскоре группа социалистов-эмигрантов, в состав которой входили Плеханов, его старые товарищи Пинхус Борух (Павел Аксельрод) и Вера Засулич, а также молодые революционеры Юлий Цедербаум (Юлий Мартов) и Ленин, начали издавать в Европе русскоязычную газету, первый номер которой вышел в Штутгарте в декабре 1900 года. Эта газета, призванная объединить русских революционеров вокруг марксистской программы, получила название «Искра» – имелась в виду та искра, из которой «возгорится пламя» [174].
Агитатор, учитель
Будущий Сталин (как и Ленин) вел отсчет своего «членства в партии» с 1898 года. Осенью и зимой 1898–1899 годов он все чаще нарушал порядки, заведенные в семинарии: опоздал на утренний молебен, нарушил дисциплину на богослужении (насколько можно судить, ушел еще до его окончания, жалуясь на то, что от долгого стояния у него началась боль в ноге), вернулся с трехдневным опозданием из отпуска, проведенного в Гори, не поздоровался с преподавателем (бывшим инспектором Мураховским), смеялся в церкви, возмущался обыском, ушел со всенощной. Джугашвили получал замечания и даже подвергался заключению в карцере семинарии. 18 января 1899 года ему было запрещено в течение месяца покидать территорию семинарии и выходить в город – очевидно, в связи с тем, что у него был найден большой запас запрещенных книг. (Еще один семинарист, пойманный с поличным, был исключен [175].) Более того, после пасхальных каникул Джугашвили не сдал годичных экзаменов. 29 мая 1899 года он был упомянут в официальном органе грузинского экзархата: «Увольняется из семинарии за неявку на экзамены по неизвестной причине» [176]. Это исключение, а также загадочные слова о «неизвестной причине», дали пищу для всевозможных интерпретаций, включая позднейшую похвальбу самого Сталина, будто бы он был «вышиблен за пропаганду марксизма» из православной семинарии [177]. Но еще до того, как стать правителем, он не раз утверждал, что ему неожиданно назначили плату за обучение, которую он не мог заплатить, и что на последнем году обучения он лишился частичной финансовой поддержки со стороны государства. Впрочем, он ни разу так и не сказал, за что его лишили стипендии [178]. Кроме того, у нас как будто бы нет указаний на то, что он обращался за финансовой поддержкой к Эгнаташвили или к другим благодетелям. Наконец, о неспособности платить за обучение ничего не говорится в формальном решении об исключении. И все же его стесненные обстоятельства были хорошо известны (Джугашвили много раз обращался к ректору с просьбой о финансовом вспомоществовании), и совсем не исключено, что блюстители дисциплины во главе с инспектором Абашидзе сумели избавиться от Джугашвили, воспользовавшись его бедностью [179].
Через четыре года после исключения Джугашвили Абашидзе получил повышение – был посвящен в епископы, что представляло собой явный знак одобрения [180]. На самом деле проводившаяся в семинарии политика русификации провалилась. Кавказские власти уже в 1897–1898 годах, судя по всему, пришли к заключению, что Тифлисская семинария наносит ущерб русским интересам и ее следует закрыть (согласно воспоминаниям одного из преподавателей). Впрочем, вместо того, чтобы немедленно закрывать ее, церковники решили провести чистку среди этнических грузин, учившихся в семинарии [181]. Списки нарушителей-семинаристов были переданы из семинарии в жандармерию [182]. В сентябре 1899 года от 40 до 45 семинаристов были исключены «по собственному желанию». Вскоре в семинарии вообще не осталось учащихся-грузин. (Семинария была окончательно закрыта в 1907 году [183].) Джугашвили мог бы быть исключен вместе со многими другими семинаристами. Но то, что его исключили отдельно, возможно, объясняется местью со стороны Абашидзе. Так или иначе, остается тот факт, что неявка Джугашвили на экзамены так и не получила никакого объяснения и что он, судя по всему, не подавал прошения о повторной сдаче экзаменов. Возможно, ключ к разгадке может дать то обстоятельство, что в год исключения Джугашвили из семинарии он предположительно стал отцом маленькой девочки – Прасковьи (Паши) Георгиевны Михайловской, которая очень сильно походила на него во взрослом возрасте [184]. Кружок семинаристов во главе с Джугашвили для своих тайных встреч снимал лачугу в Тифлисе, у подножья священной горы Мтацминда, но молодые люди могли использовать ее и для свиданий [185]. Впоследствии Сталин сохранил полученное им письмо с подтверждением его отцовства в своем архиве. Если принимать всерьез это косвенное свидетельство, оно может объяснить, почему Джугашвили лишился государственной стипендии и не подавал прошения о повторной сдаче экзаменов или о возобновлении выплаты стипендии [186].
Но биографы отмечают и другие странности. После исключения из семинарии Джугашвили остался должен государству более 600 рублей – что представляло собой фантастическую сумму – за то, что не стал священником и вообще не получил никакой должности в структуре православной церкви, не пожелав идти даже в учителя. Ректорат отправил ему письмо с предложением стать учителем в церковно-приходской школе, но Джугашвили отказался; тем не менее семинария, судя по всему, не обратилась к светским властям, чтобы заставить его выполнить свои финансовые обязательства [187]. Более того, в октябре 1899 года, не выплатив свой долг, Джугашвили затребовал в семинарии и получил официальный документ об окончании четырех классов в семинарии (поскольку пятого он не закончил). При этом в табели у исключенного семинариста стояла пятерка за поведение [188]. Возможно, все эти странности, которые в обычных условиях заставили бы заподозрить, что дело не обошлось без взятки, и не имели никакого значения. При всем вышесказанном не исключено, что будущий Сталин просто перерос семинарию, будучи на два года старше одноклассников и успев с головой уйти в революционную деятельность под руководством Ладо. Джугашвили не собирался идти в священники и в то же время вряд ли бы получил в семинарии рекомендацию продолжить обучение в университете. Исключение из семинарии, как якобы признавался Джугашвили одному из своих соучеников, стало для него «ударом», но даже если так, он не боролся за право остаться [189].
Джугашвили, по-прежнему погруженный в книги, все больше и больше представлял себя в роли учителя. Лето 1899 года он снова провел не в Гори, а в селе Цроми, со своим приятелем Михо Давиташвили, сыном священника. Их навещал Ладо Кецховели. Полиция обыскала дом Давиташвили, но, по-видимому, семья была предупреждена и обыск ничего не дал. Тем не менее Михо принадлежал к большой группе семинаристов, в сентябре 1899 года не ставших продолжать занятия в семинарии «по собственному желанию» [190]. Джугашвили пригласил многих ребят, исключенных вслед за ним из семинарии, в возглавлявшийся им кружок самообразования [191]. Кроме того, он продолжал встречаться с рабочими и читать им лекции. Затем, в декабре 1899 года, вскоре после получения из семинарии официального документа об окончании четырех курсов – который, возможно, понадобился ему для поступления на работу, – Джугашвили устроился на оплачиваемую должность в Тифлисскую метеорологическую обсерваторию, являвшуюся государственным учреждением. Это было большой удачей, но свою роль здесь сыграла и его связь с семейством Кецховели: Вано Кецховели, младший брат Ладо, работал в обсерватории, а Джугашвили поселился у Вано уже в октябре 1899 года; чуть погодя удачно вышло так, что уволился один из сотрудников обсерватории [192]. Джугашвили получал относительно хорошие деньги: 20–25 рублей в месяц (в то время на Кавказе средняя оплата за квалифицированный труд составляла 14–24 рубля, а за неквалифицированный – 10–13 рублей) [193]. Зимой он чистил снег, летом сметал пыль, а кроме этого, ежечасно записывал показания термометра и барометра. Кроме того, будущий Сталин тратил много времени на чтение и стал увлеченным агитатором. Когда у него была ночная смена, он мог целый день изучать труды по марксизму или читать лекции группам рабочих, что превратилось для него в абсолютную страсть.
Еще одним источником вдохновения стали для него сомнения в отношении социалистического истеблишмента. В знак солидарности с Ладо Кецховели, который иногда скрывался по ночам в обсерватории, Джугашвили стал косо смотреть на журнал «Квали», издававшийся Жорданией. В качестве легального издания «Квали» подлежал цензуре и был вынужден проявлять сдержанность, предлагая читателям «выхолощенный марксизм», что было нестерпимо для молодых радикалов. По мнению Кецховели и Джугашвили, фельетоны «Квали» «ничем не помогали» истинным рабочим. Ладо мечтал выпускать свой собственный нелегальный журнал и привлекал к сотрудничеству все больше молодых пропагандистов, подобных Джугашвили [194]. Жордания и его сторонники выступали против нелегального журнала, опасаясь того, что он подставит под удар и их легальный журнал. Когда Джугашвили написал статью, в которой критиковал «Квали» за его явную покорность и бездействие, Жордания и редакторы журнала отказались ее печатать. До Джибладзе и Жордании дошли слухи, что Джугашвили у них за спиной ведет агитацию против «Квали» [195]. Но вне зависимости от личной неприязни, на кону стояли реальные тактические разногласия: будущий Сталин в унисон с Ладо требовал, чтобы марксистское движение перешло от просветительской работы к активным действиям. Ладо подал пример, 1 января 1900 года организовав забастовку кучеров городской конки. Кучера зарабатывали за тринадцатичасовой рабочий день по 90 копеек, причем часть этой суммы отбиралась у них в виде сомнительных «штрафов». Их отказ работать ненадолго вызвал паралич в столице и привел к повышению окладов. Тем самым рабочие продемонстрировали свою силу. Однако, как отмечали Жордания и Джибладзе, имелся здесь и риск. Один из служащих конки донес на Ладо и тот в середине января 1900 года едва ускользнул от тифлисских жандармов, сбежав в Баку [196]. В том же месяце Джугашвили был впервые арестован. Несколькими неделями ранее ему как раз исполнился 21 год, что означало совершеннолетие.
Формально его обвиняли в том, что его отец Бесо не уплатил положенных налогов в Диди-Лило, селе, которое Бесо покинул более тридцати лет назад, однако по бумагам продолжая числиться его жителем. Джугашвили оказался в камере Метехской тюрьмы – стоявшей на утесе, мимо которого он проходил в 11-летнем возрасте по пути на фабрику Адельханова, где работал вместе с отцом. Судя по всему, Михо Давиташвили и прочие друзья собрали деньги и выплатили за Бесо его недоимку, после чего Джугашвили вышел на свободу. Из Гори приехала Кеке, настояв на том, чтобы какое-то время пожить вместе с ним в его комнате в обсерватории, – и тем самым поставила его в неудобное положение. Она «жила в постоянном волнении за сына, – вспоминала их соседка и дальняя родственница (Мария Китиашвили). – Я хорошо помню, как она приходила к нам и плакала о своем дорогом Сосо: где-то он сейчас, не забрали ли его жандармы» [197]. Вскоре полиция установит слежку уже за самой Кеке и будет время от времени вызывать ее на допросы. Остается неясным, почему жандармы не арестовали Бесо, который жил в Тифлисе (Иосиф время от времени получал от отца сапоги кустарного изготовления) [198]. Неясно и то, почему Джугашвили не был арестован и за свой долг государству, которому он не вернул выплаченную ему стипендию. Не стоит сбрасывать со счетов полицейскую некомпетентность. Но арест за долги Бесо производит впечатление предлога, предупреждения юному радикалу или, возможно, маневра с целью пометить его: Джугашвили был сфотографирован для полицейской картотеки. Он вернулся на работу в обсерваторию, но вместе с тем продолжил нелегальное чтение политических лекций и оставался под надзором. «По агентурным сведениям Джугашвили социал-демократ и ведет сношения с рабочими, – отмечали в полиции. – Наблюдение показало, что он держит себя весьма осторожно, на ходу постоянно оглядывается» [199].

