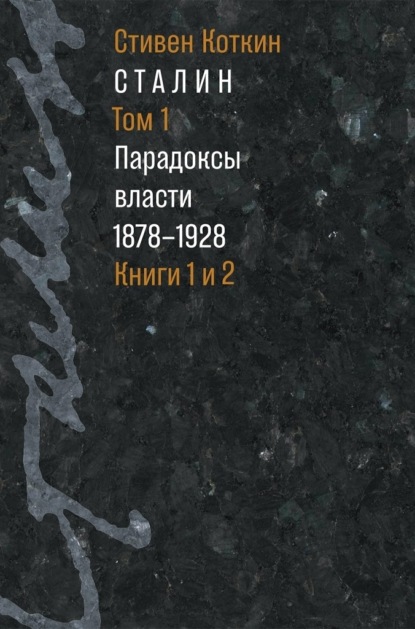
Полная версия:
Сталин. Том 1. Парадоксы власти. 1878–1928. Книги 1 и 2
По-видимому, Бесо, приехав в Гори, забрал покалеченного сына в Тифлис, чтобы лечить его там. Вероятно, Кеке вместе с ними отправилась в столицу, где Сосо оправлялся от травмы [78]. Вполне возможно, что именно этот случай и лег в основу получивших большое распространение утверждений о том, что Бесо будто бы «похитил» сына, потому что не желал, чтобы тот учился [79]. Как дело обстояло в реальности, неизвестно. По-видимому, Бесо – вероятно, годом ранее, в 1889 году, – выражал желание выкрасть Сосо из училища, но его, возможно, отговорили от этого (или заставили вскоре вернуть мальчика). Но с другой стороны, под «похищением» могут просто иметься в виду события 1890 года, когда Бесо после выздоровления сына оставил его в Тифлисе, устроив учеником на фабрику Адельханова. Это огромное предприятие было построено в 1875 году, когда Бесо жил в Гори, родившимся в Москве армянским магнатом Григорием Адельхановым, переселившимся в Тифлис и в 1870-х годах возглавившим городской кредитный союз, контролировавшийся армянами. Фабрика Адельханова была оборудована станками и начиная с 1885 года ежегодно могла выпускать 50 тысяч пар обуви, а также 100 тысяч бурок для императорской армии. Ее годовая выручка превышала 1 миллион рублей, что в те дни было колоссальной суммой для местного предприятия [80]. Бесо с сыном жили в дешевой комнате в старой части Тифлиса (Авлабар) и вместе ходили на работу по железному мосту через Куру, мимо средневековой Метехской церкви, стоящей на высоком утесе и превращенной российскими властями в тюрьму [81]. Как и Сосо, многие работники у Адельханова были несовершеннолетними – в большинстве своем это были дети взрослых рабочих, отправленные трудиться, чтобы приносить в семью дополнительный заработок: такая практика была обычным делом на тифлисских фабриках [82]. Иными словами, желание Бесо, чтобы сын пошел по его стопам и выучился его ремеслу при всей своей эгоистичности было нормой [83].
Благодаря своему отцу будущий вождь мирового пролетариата рано соприкоснулся с фабричной жизнью во всей ее неприглядности. На фабрике Адельханова имелся медпункт, чем не могло похвастаться ни одно другое кожевенное предприятие в Тифлисе, но рабочий день был длинным, заработки – низкими, условия труда – опасными. Та же самая механизация, которая подрывала позиции таких независимых кустарей, как Бесо, с течением времени сделала избыточной часть рабочей силы и на самой фабрике. Более того, взрослые рабочие у Адельханова были жестокими людьми, издевавшимися над молодежью. Возможно, что Сосо в качестве ученика оставался исключительно на подхвате у более взрослых рабочих, и никто не учил его сапожному делу. Несомненно, ему приходилось дышать тошнотворной вонью гнилой сыромятной кожи в сыром подвале, бесконечно более скверном, чем тот погреб, в котором его безуспешно пыталась нянчить мать. Если бы Сосо Джугашвили остался учеником-пролетарием у Адельханова или сбежал и стал уличным мальчишкой, из него едва ли бы получился Сталин. Однако вместо этого – как отмечали все его биографы – Кеке задействовала все свои тщательно выпестованные церковные связи с тем, чтобы заполучить назад дорогого сыночка. Подобно Кларе Гитлер, набожной католичке, мечтавшей о том, чтобы ее сын Адольф стал пастором, Кеке Геладзе верила в то, что ее мальчику Сосо суждено выйти в православные священники, – этот путь для таких, как он, детей из низов общества открылся с отменой крепостного права [84]. Своим возвращением на многообещающий путь прилежной учебы и самосовершенствования мальчик был обязан решительной матери.
Кеке не шла ни на какие компромиссы. Она отвергла предложенное тифлисскими церковными властями решение, согласно которому Сосо остался бы с отцом, но получил бы разрешение петь в хоре грузинского экзарха. Кеке не соглашалась ни на что, кроме возвращения Сосо в Гори к сентябрю 1890 года, когда начинался следующий учебный год [85]. Победой над мужем в глубоко патриархальном обществе она была обязана в том числе и друзьям семьи, вставшим на сторону женщины, и самому мальчику. В родительской войне за право выбора между карьерой священника (и училищем) и ремеслом сапожника Сосо отдал предпочтение училищу и, соответственно, матери. В отличие от Бесо, Кеке всегда была готова на все, лишь бы ее сын был одет, а его счета оплачены. Иосиф (Сосо) Иремашвили, который свел знакомство с будущим Сталиным, сцепившись с ним на школьном дворе, вспоминал, что его друг «был предан лишь одному человеку – матери» [86]. А Кеке, в свою очередь, была предана ему. И все же не следует ее идеализировать. Помимо всего прочего, она была властной женщиной. «Жестокость Сталина – это от матери», – вспоминал другой его горийский приятель, впоследствии занимавший второстепенную должность в свите диктатора (он отвечал за вино и продовольствие). «Мать у него, Екатерина Геладзе, была очень жесткой женщиной, да и вообще тяжелым человеком» [87]. В свою очередь, Бесо, судя по всему, вслед за женой и сыном вернулся в Гори. Если дело обстояло так, то это был уже не первый случай, когда он умолял Кеке о примирении. Но события 1890 года, связанные с лечением Сосо и его работой на фабрике в Тифлисе, ознаменовали окончательный распад их брака [88]. Бесо отказался оказывать семье материальную поддержку (чего бы эта поддержка ни стоила), и Сосо, вернувшийся в горийское духовное училище, был исключен из него за то, что родители не внесли плату за обучение, составлявшую 25 рублей. Судя по всему, в итоге долг погасил взявший дело в свои руки «дядя Яков» Эгнаташвили.
Дядя Яков стал важным человеком в жизни Сосо, он фактически заменил ему отца [89]. Многие авторы уделяли большую роль увлечению юного Сталина знаменитым романом «Отцеубийство» (1882) Александра Казбеги (1848–1893), отпрыска грузинской княжеской семьи (его дед принимал участие в аннексии Грузии Россией и получил за это земли в горах). Российские имперские власти, которых обличал Казбеги в своем романе, запретили эту книгу, тем самым усилив и без того значительный интерес к ней. По сюжету романа крестьянский сын Яго и прекрасная девушка Нуну влюбляются друг в друга, несмотря на неодобрение своих семейств, но грузинский чиновник, пошедший на службу к российским властям, насилует Нуну и сажает Яго в тюрьму по сфабрикованному обвинению. Лучший друг Яго, Коба, смелый и неразговорчивый горец (мохеве [90]), клянется отмстить – «Я заставлю их матерей рыдать!» – и устраивает для Яго дерзкий побег из тюрьмы. Однако люди грузинского чиновника убивают Яго. Нуну умирает от горя. Но Коба, верный своей клятве, настигает надменного чиновника и лишает его жизни – «Это я, Коба!» – совершая акт примитивного правосудия. Коба – единственный оставшийся в живых герой романа, переживший и своих друзей, и врагов [91]. Среди нескольких десятков ранних псевдонимов Сталина – недолгое время включавших и такой, как Бесошвили («сын Бесо») – единственным прилипшим к нему был Коба. «Он называл себя Кобой и не желал, чтобы мы звали его по-другому, – вспоминал его друг детства Иосиф Иремашвили. – Его лицо сияло от гордости и удовольствия, когда мы называли его Кобой» [92]. В нем было что-то мальчишеское; как вспоминал один из его друзей, «Мы, его друзья, нередко видели, как Сосо <…> слегка выставив левое плечо вперед и слегка согнув правую руку, с папироской в руке спешит куда-то среди уличной толпы». Называться мстителем Кобой (что по-турецки означает «неукротимый»), несомненно, импонировало ему куда больше, чем слышать такие клички, как Калека или Рябой. Однако стоит подчеркнуть, что Яков Эгнаташвили, ставший для Сосо Джугашвили приемным отцом, тоже имел прозвище Коба, являвшееся чем-то вроде уменьшительного от Якоби – грузинского варианта его имени.
Те, кто писал о Сталине, слишком много внимания уделяли недостаткам Бесо, и слишком мало – поддержке со стороны Якова (Кобы) Эгнаташвили. Кроме того, слишком много внимания уделялось и роли насилия в ранние годы жизни Сосо Джугашвили. Бесо избивал сына в гневе, вымещая на нем свои унижения, и без какой-либо особенной причины; любящая мать тоже била мальчика. (Бесо поколачивал Кеке, а та, в свою очередь, иногда устраивала взбучки мужу за его пьянство [93].) Разумеется, немалому числу детей довелось получать побои от одного или обоих родителей. Да и Гори не был средоточием какой-либо особенно жестокой восточной культуры. Само собой, ежегодный праздник Великого понедельника (на пасхальной неделе), отмечавшийся в память об изгнании персов-мусульман в 1634 году, сопровождался вечерними кулачными боями по всему Гори. Город разделялся на национальные команды, в целом насчитывавшие до тысячи или больше бойцов, а в качестве судей выступали пьяные попы. Роль застрельщиков выполняли дети, к которым затем присоединялись взрослые, и Сосо не упускал случая поучаствовать в этом развлечении [94]. Но такое праздничное насилие – яростные потасовки, за которыми следовали потные объятия – было типично для всей Российской империи, от украинских рыночных городков до сибирских сел, и Гори ничем не выделялся из общего ряда. Более того, те проявления жестокости, которые приписываются молодому Сталину, в большинстве случаев едва ли можно назвать неслыханным делом для мальчишек. В Гори проводились состязания по борьбе, а худощавый, жилистый Сосо во время подобных схваток на школьном дворе, говорят, проявлял себя упорным, хотя и нечестным бойцом, демонстрировавшим изрядную силу, несмотря на искалеченную левую руку. Согласно некоторым утверждениям, он не отказывался от поединков с более сильными противниками и порой бывал избит до полусмерти. Но Сосо явно старался идти по стопам знаменитого человека, заменившего ему отца, – представители клана Эгнаташвили во главе со своим патриархом были чемпионами Гори по борьбе. «Маленький Сталин не без успеха боксировал и боролся», – вспоминал Иосиф (Сосо) Давришеви, сын полицейского [95].
Напротив, жизнь Бесо катилась под откос. Судя по всему, он ушел с фабрики Адельханова вскоре после неудачной попытки заставить сына вернуться туда. Он пытался добиться успеха, занимаясь починкой обуви в киоске на Армянском базаре в Тифлисе, но из этого, кажется, ничего не вышло. О том, на какие средства он существовал в дальнейшем, у нас нет достоверных сведений; согласно некоторым источникам, в конце концов Бесо стал бродягой, хотя есть указания и на то, что он не оставил своего ремесла, возможно, устроившись в мастерскую по починке одежды [96]. Впоследствии Сталин разъяснит, что причиной его «пролетарского» происхождения стало движение отца по нисходящей: «мой отец рабочим не рождался, у него была мастерская, были подмастерья, был эксплуататором, – рассказывал он командирам Красной армии в марте 1938 года. – Жили мы неплохо. Мне было 10 лет, когда он разорился в пух и пошел в пролетарии. Я бы не сказал, что он с радостью ушел в пролетарии. Он все время ругался, не повезло, пошел в пролетарии. То, что ему не повезло, что он разорился, мне ставится в заслугу. Уверяю вас, это смешное дело (смех)» [97]. Вообще говоря, Бесо так и не вышел из своей крестьянской общины в Диди-Лало и потому оставался членом крестьянского сословия, передав этот юридический статус и своему сыну (как значилось в царских внутренних паспортах Сталина вплоть до 1917 года). Но несмотря на то, что будущий советский вождь был крестьянином де-юре и сыном рабочего де-факто, сам он, благодаря поддержке Кеке и «дяди» Якова выбился в ряды полуинтеллигенции.
Вера в бога
В 1890/1891 учебном году Сосо был вынужден остаться в классе на второй год из-за происшествия с фаэтоном, но он принялся за занятия с еще большим упорством. Те, кто знал его, вспоминали, будто бы он никогда не опаздывал на уроки и все свое свободное время проводил за книгой – и эти утверждения производят впечатление правды [98]. «Это был очень способный мальчик, неизменно шедший первым учеником в своем классе», – вспоминал его бывший школьный товарищ, добавляя, что «Первым он был и во всех играх и развлечениях». По воспоминаниям некоторых одноклассников, Сосо возмущался, когда мальчиков-грузин ставили в угол в наказание за то, что они разговаривали на родном языке; другие вспоминали, что он не боялся просить учителей, носивших впечатляющие форменные мундиры с золотыми пуговицами, за других учеников. Если Сосо действительно заступался перед учителями за учеников, то, вероятно, потому, что учитель русского языка – носивший кличку «жандарм» – выбрал его в качестве старосты класса, обязанного следить за дисциплиной. Но какую бы роль он ни играл в качестве посредника, все учителя, включая и грузинских, ценили усердие Сосо и готовность отвечать у доски [99]. Он пел русские и грузинские народные песни, романсы Чайковского, изучал церковнославянский и греческий языки, и его выбирали читать литургию и петь псалмы в церкви. Он получил от училища награду: псалтырь с надписью «Иосифу Джугашвили <…> за превосходные успехи, примерное поведение и превосходное чтение псалтыря» [100]. Один его одноклассник с восхищением вспоминал, как Сосо и другие хористы «в своих стихарях, коленопреклоненные, с поднятыми лицами поют ангельскими голосами вечерню перед другими мальчиками, распростертыми в неземном экстазе» [101].
Во всем этом присутствовала и прозаическая сторона: ради того, чтобы свести концы с концами, Кеке убиралась в училище (за 10 рублей в месяц). Возможно, что она также работала прислугой в доме у директора училища, хотя в какой-то момент получила постоянное место швеи в местной «модной» лавке и, наконец, перебралась с сыном в квартиру на Соборной улице в Гори [102]. Однако вскоре Сосо за успехи в учебе был освобожден от платы за обучение и даже стал получать ежемесячную стипендию в 3 рубля, впоследствии возросшую до 3 рублей 50 копеек, а затем и до 7 рублей. Возможно, это лучшее доказательство того, что мальчик из распавшейся семьи выделялся как один из лучших учеников в Гори [103]. Окончив школу весной 1894 года, в солидном возрасте в 15 с половиной лет, он мог бы поступить в Горийскую учительскую семинарию, что стало бы еще одним шагом вверх по социальной лестнице. Появился и еще более привлекательный вариант: учитель пения Симон Гогличидзе, переводившийся в Тифлисскую учительскую семинарию имени царя Александра, пообещал, что может устроить своего лучшего горийского ученика на заветное полностью оплачиваемое место в государственном учебном заведении. Это было очень заманчивое предложение в глазах малоимущей семьи. Но вместо этого Сосо сдал вступительные экзамены в Тифлисскую духовную семинарию, решив стать священником. Он получил отличные оценки почти по всем экзаменам – на знание Библии, по церковнославянскому, по русскому, на знание катехизиса, по греческому, по географии, по чистописанию (хотя и не по арифметике) – и был зачислен в семинарию. Сбывались его мечты. Тифлисская семинария – наряду со светскими гимназиями этого города для мальчиков и девочек из зажиточных семей – представляла собой высшую ступень образовательной лестницы на Кавказе, где власти Российской империи не пожелали создавать университет. Шестигодичное обучение в семинарии (куда обычно поступали в 14-летнем возрасте) как минимум давало возможность получить место приходского священника или деревенского учителя в сельской Грузии, но для более амбициозных учеников семинария могла послужить трамплином для поступления в один из университетов империи.
В рамках биографического жанра как такового троп несчастного детства – итог увлечения фрейдизмом – стал играть чрезмерно большую роль [104]. Это слишком простой путь, даже в тех случаях, когда речь идет о персонажах, у которых было действительно несчастливое детство. Детские годы будущего Сталина, безусловно, выдались непростыми: болезни и несчастные случаи, вынужденные переезды, стесненные обстоятельства, разорившийся отец, любящая, но суровая мать, про которую ходили слухи, что она шлюха. Но во взрослом возрасте, несмотря на пристрастие диктатора к проявлениям бурного негодования, решившим участь большинства его коллег по революции, он не выражал особого гнева по отношению к своим родителям или к детским невзгодам. Будущий кремлевский вождь не сталкивался с теми придворными кровавыми интригами, среди которых проходило детство Ивана Грозного или Петра Великого (с которыми его часто будут сравнивать). Отец Ивана умер от фурункула, когда мальчику было три года; его мать была убита, когда ему шел восьмой год. Осиротевший царь Иван Грозный по милости своих регентов был вынужден выпрашивать еду, в то время как у него на глазах шла кровопролитная борьба за власть между элитами, выступающими от его имени, и это вызвало у него страх перед грозившей ему самому гибелью от рук убийц. Молодой Иван пристрастился отрывать крылья у птиц и выбрасывать из окон кошек и собак. Отец Петра Великого умер, когда ему было четыре года. Впоследствии жизни мальчика угрожали различные придворные группировки, связанные с двумя вдовами его отца. После того как Петра в 10-летнем возрасте провозгласили царем, проигравшая группировка подняла бунт, и маленький Петр видел, как родичей и друзей его матери бросали на копья. Вообще говоря, некоторые авторы преувеличивают ужасы, пережитые Иваном и Петром в детстве, предлагая псевдопсихологические объяснения жестокостей их правления. И все-таки в отношении малолетнего Джугашвили можно сказать лишь то, что, возможно, однажды в его присутствии отец бросился на мать с ножом.
Стоит ли сравнивать детские испытания будущего Сталина с тем, что пережили Иван и Петр? Можно сослаться еще на первые годы жизни Сергея Кострикова, впоследствии получившего известность под революционным псевдонимом Киров и ставшего лучшим другом Сталина. Киров, родившийся в 1886 году в маленьком городке Вятской губернии в Центральной России, впоследствии считался одним из самых популярных сталинских партийных вождей. Но у него было трудное детство: четверо из остальных семерых детей его родителей умерло в младенчестве, его отец был пьяницей, бросившим семью, а мать умерла от туберкулеза, когда мальчику было всего семь лет. Киров вырос в сиротском приюте [105]. Аналогичная участь выпала на долю еще одной ключевой фигуры из ближайшего окружения Сталина, Григория (Серго) Орджоникидзе, который еще в младенчестве остался без матери, а в 10-летнем возрасте – без отца. Напротив, у юного Сталина были любящая мать и ряд важных наставников, о чем свидетельствуют поразительно многочисленные мемуары, посвященные той эпохе. Поблизости жила большая семья Кеке, включая ее брата Гио и его детей (другой брат Кеке, Сандала, погибнет от рук царской полиции). А семья Бесо (дети его сестры) не порывала с Кеке даже после того, как Бесо в 1890 году проиграл в споре по поводу опеки над сыном [106]. Семья скрепляла грузинское общество, а Сосо Джугашвили жил в окружении не только собственной многочисленной родни, но и суррогатной родни в лице семейства Эгнаташвили (а также Давришеви). Жители маленького Гори заботились друг о друге, образуя сплоченное сообщество.
Помимо большой семьи и обучения в Гори (служившего билетом наверх), те невзгоды, которые в детстве выпали будущему Сталину, искупал еще один важный момент: вера в Бога. Обездоленной семье Сталина нужно было как-то изыскать серьезные деньги для оплаты обучения в семинарии (40 рублей в год), а также оплаты проживания и стола (100 рублей) и покупки стихаря, служившего формой для семинаристов. 16-летний Джугашвили подал прошение о получении стипендии и получил ее в частичном виде: ему предоставили бесплатное проживание и питание [107]. В поисках денег на оплату обучения Кеке обратилась к приемному отцу Сосо, Кобе Эгнаташвили. У Кобы-большого имелись средства для того, чтобы отправить двух своих выживших родных сыновей в московскую гимназию, и он заплатил и за Кобу-маленького (Сосо). Но если бы Сосо лишился спонсора в лице состоятельного Эгнаташвили и не нашел бы себе другого или если бы ректор семинарии, русский по национальности, лишил Джугашвили частичной стипендии, он вряд ли бы смог продолжать учебу. Он пошел на большой риск, не пожелав бесплатно учиться в светской учительской семинарии, куда его предлагал устроить учитель пения Гогличидзе. Причина, должно быть, заключалась в том, что набожной была не только Кеке, но и ее сын. В воспоминаниях, опубликованных в советскую эпоху, было позволено сообщить читателям о том, что «Первые годы учебы в училище он [Сталин] был очень верующим, аккуратно посещал все богослужения, был заправилой в церковном хоре <…> Он не только выполнял религиозные обряды, но всегда и нам напоминал об их соблюдении» [108]. Будущий Сталин, учившийся в семинарии среди монахов, возможно, подумывал о том, чтобы самому стать монахом. Но изменения, постигшие Российскую империю и весь мир, открыли перед ним совершенно иной путь [109].
Глава 2
Ученик Ладо
Другие живут нашим трудом; они пьют нашу кровь; наше угнетение утоляет их жажду слезами наших жен, детей и родных.
Листовки на грузинском и армянском, распространявшиеся Иосифом Джугашвили, 1902 [110]Тифлис был полон завораживающей, волшебной красоты. Основанный в V веке в речном ущелье, с VI века ставший резиденцией грузинских царей, Тифлис – называвшийся так и по-персидски, и по-русски – был на столетия старше древнего Киева, не говоря уже о юнцах Москве и Петербурге. По-грузински город звался Тбилиси («теплое место») – возможно, из-за прославленных горячих источников. («Нельзя не упомянуть, – восторгался один путешественник в XIX веке, – что здешние бани не уступят даже константинопольским» [111].) В 1801 году, когда Россия присоединила к себе Восточную Грузию, в Тифлисе насчитывалось около 20 тысяч жителей, причем три четверти из их числа были армянами. К концу столетия население города выросло уже до 160 тысяч человек, в большинстве своем – армян (38 %), за которыми шли русские и грузины при небольшом числе персов и турок [112]. Армянские, грузинские и персидские кварталы взбирались по склонам холмов террасами домов с многоуровневыми балконами, громоздящимися друг на друга в стиле, напоминавшем города османских Балкан или Салоники. Напротив, плоский русский квартал отличался широкими бульварами; там находились внушительный дворец наместника, оперный театр, классическая гимназия № 1, русский православный собор и частные дома русских чиновников и крупной армянской буржуазии. Великие реформы, проведенные в 1860-х годах в Российской империи, привели к созданию органов муниципальной власти, выбиравшихся в условиях серьезного имущественного ценза, и потому богатые армяне составляли большинство имевших право голоса на муниципальных выборах в Тифлисе, благодаря чему городская дума контролировалась армянскими купцами. Но они не имели никакого влияния на исполнительные органы имперской администрации, управлявшиеся назначенными в них русскими, немцами и поляками, нередко опиравшимися на грузинских дворян, для которых государственные должности становились источником обогащения [113]. И все же грузины – составлявшие не более четверти населения города – в какой-то степени были чужаками в своей собственной столице.
Городское неравенство бросалось в глаза. Вдоль широкого, обсаженного деревьями проспекта Головина, названного в честь русского генерала, тянулись магазины с вывесками на французском, немецком, персидском и армянском, как и на русском языках. Здесь предлагались на продажу модные товары из Парижа и шелка из Бухары, полезные для обозначения статуса, а также ковры из соседнего Ирана (из Тебриза), позволявшие придать шик внутренним помещениям. С другой стороны, на хаотических армянском и персидском базарах города, под руинами персидской крепости, «моются, бреются, стригутся, одеваются и раздеваются, как у себя в спальне», как объяснял русскоязычный путеводитель по лабиринту ювелирных мастерских и харчевен, в которых подавали кебабы и недорогое вино [114]. В толпе выделялись татарские (азербайджанские) муллы в зеленых и белых чалмах, а рядом расхаживали персы в кафтанах и черных меховых шапках, с волосами и ногтями, выкрашенными в красный цвет [115]. Очевидец описывал одну из типичных городских площадей (майдан), рядом с которой в 1890 году недолго жил с отцом Сосо Джугашвили, как кашу «из людей и животных, бараньих шапок и бритых голов, фесок и картузов», где все «кричит, стучит, смеется, бранится, толкается, поет, работает и потрясает на разные тона и голоса» [116]. Но за этим восточным столпотворением на улицах – вызывавшим у авторов путеводителей сплошные «ох!» и «ах!» – общество в 1870–1900 годах прошло через коренную трансформацию, вызванную железными дорогами и индустриализацией, а также грузинским национальным пробуждением, которому способствовали расцвет периодической печати и современные средства сообщения. К 1900 году в Тифлисе уже имелась малочисленная, но заметная интеллигенция и растущий промышленный пролетариат [117].
Именно в этом модернизирующемся городском окружении Джугашвили – который к 1894 году снова был в Тифлисе – поступил в семинарию и достиг совершеннолетия, став не священником, а марксистом и революционером [118]. Марксизм, ввезенный в Грузию в 1880-е годы, как будто бы обещал мир несомненных фактов. Но Джугашвили не сам открыл для себя марксизм. Роль революционного наставника для будущего Сталина сыграл двадцати-с-чем-то-летний воинствующий бунтарь Владимир (Ладо) Кецховели (г. р. 1876), и его подопечный впоследствии называл себя учеником Ладо [119]. Тот был пятым из шести детей священника из деревни рядом с Гори. Будучи на три года старше Джугашвили, вместе с которым он учился сперва в духовном училище в Гори, а затем в духовной семинарии в Тифлисе, Ладо пользовался громадным авторитетом среди семинаристов. Под влиянием Ладо молодой Джугашвили, и без того энергично занимавшийся самообразованием, открыл в себе призвание быть агитатором и учителем, который раскрывает темным массам глаза на социальную несправедливость и предлагает им мнимое универсальное лекарство.

