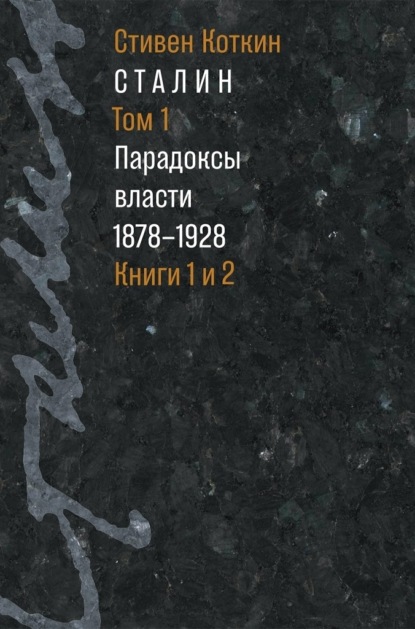
Полная версия:
Сталин. Том 1. Парадоксы власти. 1878–1928. Книги 1 и 2
Грузинский культурный национализм
В отличие от маленького Гори, в главном городе Кавказа разворачивалась грандиозная драма зарождения современности, но Иосиф Джугашвили почти не видел город, по крайней мере на первых порах. Его непосредственное окружение, духовная семинария, носила прозвище Каменный мешок, будучи четырехэтажным бастионом с фасадом в стиле классицизма. Если на вершине местной иерархии учебных заведений стояла главная классическая гимназия, то семинария – более доступная для бедной молодежи – не слишком отставала от нее. Здание семинарии, в которое она переехала в 1873 году, находилось на южном конце проспекта Головина, на Ереванской площади, и было куплено православной церковью у сахарного магната (Константина Зубалашвили). Для сотен учащихся, проживавших на верхнем этаже, в дортуаре открытого типа, день обычно начинался в 7 утра и заканчивался в 10 вечера. За утренней молитвой, на которую их сзывал колокол, следовали чай (завтрак), занятия до двух часов дня, обед в три часа дня, прогулка на свежем воздухе, на которую выделялось около часа, перекличка в пять часов, вечерний молебен, чай (легкий ужин) в восемь часов, выполнение домашних заданий и отбой. «День и ночь мы трудились в казарменных стенах, чувствуя себя заключенными», – вспоминал еще один горийский Сосо, Иосиф Иремашвили, который, как и молодой Сталин, попал в семинарию через Горийское духовное училище [120]. Учащиеся иногда получали отпуска, чтобы навестить родную деревню или город, но вообще немного свободного времени у них бывало лишь по воскресеньям – но только после православных молебнов, во время которых приходилось выстаивать по три-четыре часа на каменных плитах. Посещение театра и других святотатственных развлечений было запрещено. Однако некоторые семинаристы осмеливались выбираться в город после вечерней переклички, невзирая на то что в дортуаре время от времени проводились ночные проверки с целью пресечь чтение нелегальной литературы при свете свечей или занятия онанизмом.
Такой строгий режим не мог не быть угнетающим для подростков-семинаристов, привыкших к семейной снисходительности и вольным играм на улице, но в то же время семинария предоставляла бесконечные возможности для страстных споров с соучениками о смысле жизни и их собственном будущем, а также для знакомства с новыми книгами и приобщения к знаниям. Разумеется, речь в первую очередь шла о священных книгах, о церковнославянском языке и истории Российской империи. Иосиф (Сосо) Джугашвили, оказавшись в своей стихии, учился хорошо. Он стал ведущим тенором в семинарском хоре, что было заметным достижением с учетом того, сколько времени мальчики проводили в церкви и готовились к церковной жизни. Кроме того, он жадно читал книги и завел тетрадку, чтобы записывать свои мысли и идеи. В классе он получал в основном четверки, хотя и заработал пятерку за духовное пение, а также пять рублей за несколько выступлений в оперном театре. В первые годы учебы он получил тройки только за итоговое сочинение и по греческому. За поведение ему ставили пятерки. На первом году Джугашвили оказался восьмым по успеваемости в группе из двадцати девяти человек, а на второй год находился уже на пятом месте. Но на третий год обучения (1896/1897) он скатился на шестнадцатое место (из двадцати четырех), а на пятом году был двадцатым (из двадцати трех), провалив экзамен по Священному Писанию [121]. Поскольку места в классе распределялись в зависимости от успеваемости, Джугашвили сидел все дальше и дальше от учителей. Он утратил интерес даже к своему любимому хору, отчасти из-за постоянных проблем с легкими (хроническая пневмония) [122]. Но главной причиной, вызвавшей у него снижение интереса к учебе и плохую успеваемость, являлся культурный конфликт, порожденный силами модернизации и политической реакцией.
В 1879 году, через год после рождения Джугашвили, два грузинских писателя из дворян, князь Илья Чавчавадзе (г. р. 1837) и князь Акакий Церетели (г. р. 1840), основали Общество по распространению грамотности среди грузин. Грузины делятся на много различных групп – кахетинцев, картлийцев, имеретинцев, мингрелов, – пользующихся одним языком, и Чавчавадзе с Церетели надеялись положить начало общегрузинскому культурному возрождению с помощью школ, библиотек и книжных лавок. Их консервативно-популистская культурная программа не была сопряжена с нелояльностью к империи [123]. Но в Российской империи с административной точки зрения не было никакой «Грузии», а лишь две губернии – Тифлисская и Кутаисская, и имперские власти заняли такую жесткую позицию, что цензоры запрещали появление термина «Грузия» в русской печати. Отчасти из-за того, что лишь немногие цензоры знали грузинский язык – с его алфавитом, далеким и от кириллического, и от латинского, – цензура проявляла больше попустительства в отношении грузинских изданий, что открывало широкие просторы для грузинской периодики. Однако в Тифлисской семинарии в порядке принудительной русификации уроки грузинского языка были отменены в пользу русского в 1872 году. (Православные церковные службы в Грузии проводились на церковнославянском и потому в целом были непонятны для верующих, как и в губерниях империи с преобладанием русского населения.) С 1875 года в семинарии в грузинской столице больше не преподавалась и история Грузии. Из двух дюжин преподавателей семинарии, которые формально назначались наместником, лишь немногие были грузинами при преобладании русских монахов, а последних специально отправляли в Грузию из-за их ярой приверженности русскому национализму. (Некоторые из них впоследствии участвовали в праворадикальных движениях.) Кроме того, в штате семинарии числились два постоянных инспектора с тем, чтобы учащиеся находились под «постоянным и неустанным надзором» – даже тогда, когда у семинаристов было свободное время, – а среди учащихся вербовались доносчики, служившие начальству лишними глазами и ушами [124].
Обычным делом стали увольнения по причине «неблагонадежности», что не шло на пользу учебному процессу в семинарии. В ответ на этот деспотизм тифлисские семинаристы – в большинстве своем сыновья православных священников – начали (в 1870-е годы) выпускать нелегальные бюллетени и создавать тайные дискуссионные «кружки». В 1884 году член одного из таких кружков тифлисских семинаристов, Сильвестр (Сильва) Джибладзе (возглавивший бунт еще в младшей семинарии), ударил русского ректора по лицу за то, что тот назвал грузинский «языком для собак». Как было прекрасно известно мальчикам, Грузинское царство перешло в христианство за пятьсот лет до русских и за сто с лишним лет до римлян. Джибладзе был на три года сослан в солдаты. Затем в 1886 году еще один исключенный семинарист убил ректора семинарии кинжалом – известие об этом разнеслось по всей империи [125]. Было исключено более шестидесяти семинаристов. «Кое-кто доходил до того, что оправдывал убийцу, – докладывал грузинский экзарх петербургскому Священному синоду. – В душе его одобряли все» [126]. К 1890-м годам семинаристы начали устраивать забастовки. В ноябре 1893 года они объявили бойкот занятий, потребовав улучшить питание (особенно во время Великого поста), отменить суровый надзор, учредить в семинарии отделение грузинского языка и предоставить им право петь псалмы на грузинском [127]. Русифицирующееся духовенство в ответ на это исключило 87 учащихся – в том числе 17-летнего вождя бастующих Ладо Кецховели – и в декабре 1893 года закрыло семинарию [128]. Она вновь открылась осенью 1894 года, имея в своем составе два первых класса – 1893 и 1894 годы набора; в последнем учился Иосиф Джугашвили.
К тому моменту, когда будущий Сталин поступил в семинарию, там еще сохранялись суровые дисциплинарные меры, но в качестве уступки были возвращены уроки грузинской литературы и истории. Летом 1895 года, после первого года занятий, Джугашвили, которому было шестнадцать с половиной лет, не получив в семинарии разрешения, лично отнес свои стихи, написанные на грузинском, издателю-дворянину Илье Чавчавадзе. Редактор издававшейся Чавчавадзе газеты «Иверия» (под таким названием известна Восточная Грузия) опубликовал пять стихотворений Джугашвили, подписавшего их широко распространенным уменьшительным грузинским вариантом имени Иосиф, Сосело [129]. В одном из этих стихов насилие (в природе и в человеке) противопоставлялось кротости, свойственной птицам и музыке; в другом изображался странствующий поэт, отравленный соотечественниками. Еще одно стихотворение было написано к 50-летию грузинского князя Рафаэла Эристави, любимого поэта молодого Сталина [130]. Как впоследствии говорил диктатор, стихи Эристави были «красивыми, эмоциональными и музыкальными», и добавлял к этому, что князя по праву называли грузинским соловьем – о роли которого, возможно, мечтал сам Джугашвили. Героем страстного шестого стихотворения Джугашвили, «Старый Ниника», изданного в 1896 году в «Квали» («Борозда»), журнале еще одного Церетели, Георгия (г. р. 1842), является мудрый герой, повествующий о прошлом своим внукам. Словом, и Джугашвили был подхвачен эмоциональной волной грузинского пробуждения конца века.
Дух времени, так подействовавший на молодого Джугашвили, хорошо выражен в стихотворении «Сулико» (1895), или «Душенька», об утраченной любви и утраченном национальном духе. Эти стихи, написанные Акакием Церетели, одним из основателей Общества по распространению грамотности, были положены на музыку и стали популярной песней:
Я могилу милой искал,Сердце мне томила тоска,Сердцу без любви нелегко,Где ты? Отзовись, Сулико!Увидал я розу в лесу,Что лила, как слезы, росу.Ты ль так расцвела далеко,Милая моя Сулико?Над любимой розой своейПрятался в ветвях соловей.Я спросил, вздохнув глубоко:«Ты ли здесь, моя Сулико?» [131]Сталин-диктатор часто пел «Сулико» по-грузински и в русском переводе (переложенная на русский, песня стала сентиментальным шлягером на советском радио). Но в 1895–1896 годах ему пришлось скрывать успехи в сфере грузинской поэзии от русификаторского начальства семинарии.
Само собой, национализм был приметой эпохи. Блеск бисмарковского германского Рейха воздействовал на Адольфа Гитлера, родившегося в 1889 году под Браунау-ам-Инн в Австро-Венгрии, почти с самого момента его рождения. Отец Гитлера, Алоис, австрийский подданный и ярый немецкий националист, работал таможенным чиновником в приграничных городках на австрийской стороне; мать Гитлера Клара, третья по счету жена у своего мужа, была предана Адольфу, одному из двух выживших у нее и Алоиса детей (еще трое умерли). В трехлетнем возрасте Гитлер перебрался с семьей через границу в немецкий город Пассау, где научился говорить на нижнебаварском диалекте немецкого языка. В 1894 году семья вернулась в Австрию (поселившись под Линцем), но Гитлер, родившийся и проживший большую часть того времени, когда складывалась его личность, в Габсбургской империи, так и не овладел своеобразным австрийским вариантом немецкого языка. У него развилась неприязнь к многоязычной Австро-Венгрии и он вместе со своими друзьями, говорившими на австро-германском языке, распевал немецкий гимн «Германия превыше всего»; ребята приветствовали друг друга немецким «Хайль!» вместо австрийского «Servus». Гитлер ходил в церковь, пел в хоре и под влиянием матери выражал намерение стать католическим священником, но по большей части он рос с мечтой стать художником. В 1900 году от кори умер 16-летний старший брат Гитлера, и эта смерть, судя по всему, серьезно повлияла на него: он стал более замкнутым, отрешенным, ленивым. Его отец, желавший, чтобы мальчик пошел по его стопам и стал таможенным чиновником, вопреки его желаниям отправил его в техническое училище в Линце, где Гитлер часто конфликтовал с учителями. После внезапной смерти отца (в январе 1903 года) Гитлер стал плохо учиться и мать разрешила ему перевестись в другую школу. С трудом получив аттестат зрелости, Гитлер в 1905 году отправился в Вену, где не сумел поступить в художественное училище и вел богемный образ жизни, сидя без работы, продавая акварели и проедая свое маленькое наследство. Однако германский национализм остался при нем. Наоборот, будущий Сталин обменяет свой национализм – национализм маленького грузинского народа – на более широкие горизонты.
Политики-семинаристы
«Когда он чему-нибудь радовался, – вспоминал о Джугашвили Петр Капанадзе, который одно время был одним из самых близких к нему одноклассников, – то щелкал средним и большим пальцем, кричал звонким голосом и вертелся на одной ноге» [132]. Осенью на третий год обучения (в 1896 году), когда успеваемость Джугашвили начала ухудшаться, он вступил в подпольный «кружок» семинаристов, возглавлявшийся старшеклассником Сеидом Девдариани. Заговорщикам, возможно, отчасти помогла случайность: наряду с другими семинаристами, отличавшимися слабым здоровьем, Джугашвили был переведен из главного дортуара в отдельное помещение, где он, судя по всему, и встречался с Девдариани [133]. В их группе насчитывалось около десяти человек, включая нескольких из Гори, и они читали такую нерелигиозную литературу, как беллетристика и книги по естественным наукам – не запрещенные русскими властями, но запрещенные в семинарии, где не проходили ни Толстого, ни Лермонтова, ни Чехова, ни Гоголя, ни даже произведения Достоевского с его мессианским духом [134]. Ребята доставали светские книги в так называемой Дешевой библиотеке, которую содержало Общество Чавчавадзе по распространению грамотности, и в букинистическом магазине у хозяина-грузина. Кроме того, Джугашвили покупал такие книги в лавке в Гори, принадлежавшей одному из членов общества Чавчавадзе. (Как вспоминал книготорговец, будущий Сталин «много шутил и рассказывал смешные истории из семинарской жизни» [135].) Как почти в каждом учебном заведении Российской империи, ученики-заговорщики тайком проносили книги в семинарию, читая их по ночам, а днем пряча. В ноябре 1896 года инспектор семинарии отобрал у Джугашвили перевод «Тружеников моря» Виктора Гюго после того, как уже застал его за чтением романа того же автора «Девяносто третий год» (посвященного контрреволюции во Франции). Помимо этого, Джугашвили читал Золя, Бальзака и Теккерея в русском переводе, а также бесчисленные произведения грузинских авторов. В марте 1897 года он снова был пойман с контрабандной книгой: переводом работы французского дарвиниста, противоречившей православной теологии [136].
Монахи в семинарии, в отличие от большинства православных священников, соблюдали целибат, не ели мяса и постоянно молились, стремясь избежать искушений мира сего. Но вне зависимости от их личных жертв, преданности своему делу или научных степеней, в глазах грузинских семинаристов все они были «деспоты, капризные эгоисты, думающие только о собственных перспективах», и особенно о том, как стать епископами (статус которых в православной традиции близок к апостольскому). В свою очередь, Джугашвили, разумеется, сам по себе вполне мог лишиться интереса к религии, но семинарская политика и поведение монахов ускорили его разочарование, в то же время придав определенную решимость его бунтарству. Его как будто бы отличал только что назначенный новый инспектор семинарии, иеромонах Дмитрий, которому учащиеся дали презрительную кличку «Черное пятно». До того как стать инспектором (в 1898 году), одетый в черную рясу толстяк Дмитрий преподавал в семинарии Закон божий (с 1896 года). Несмотря на то что в миру он был грузинским дворянином, носившим имя Давид Абашидзе (1867–1943), он проявил себя еще большим ненавистником всего грузинского, чем зараженные шовинизмом русские монахи. Когда Абашидзе призвал Джугашвили к ответу за то, что тот держал у себя запрещенные книги, последний подверг критике слежку за учащимися семинарии, обозвал инспектора Черным пятном и получил за это пять часов в темном карцере [137]. Впоследствии, в годы своей диктатуры, Сталин выразительно описывал жизнь в семинарии, где процветали «шпионаж, залезание в душу, издевательство». «…в 9 часов звонок к чаю, – объяснял он, – уходим в столовую, а когда возвращаемся к себе в комнаты, оказывается, что уже за это время обыскали и перепотрошили все наши вещевые ящики» [138].
Это отчуждение происходило постепенно и не стало полным, но все же семинария, в которую Джугашвили так стремился поступить, отталкивала его от себя. Нелегальный читательский кружок, в который он вступил, поначалу не ставил перед собой никаких революционных целей. Однако вместо того, чтобы примириться с интересом студентов к тому, что как-никак представляло собой лучшие образцы художественной литературы и современной науки, и контролировать этот интерес, богословы ответили запретами и гонениями, как будто им было чего бояться. Иными словами, радикализм среди учащихся насаждался не столько их кружком, сколько самой семинарией, хотя и неумышленно. Троцкий в своей биографии Сталина красочно описывал русские семинарии, которые «славились ужасающей дикостью нравов, средневековой педагогикой и кулачным правом» [139]. Сказано вполне верно, но слишком легковесно. Многие, а может быть, и большинство выпускников русских православных семинарий становились священниками. И хотя из стен Тифлисской семинарии действительно вышли почти все главные светила грузинской социал-демократии – подобно тому, как многие радикальные члены Еврейского рабочего союза (Бунда) были выпускниками прославленного раввинского училища и учительской семинарии в Вильно, – отчасти так было потому, что подобные заведения давали образование и серьезную дозу самодисциплины [140]. Много семинаристов было в рядах ученых Российской империи (в их число входил, например, физиолог Иван Павлов, прославившийся изучением рефлексов у собак); кроме того, учеными становились дети и внуки священников (например, Дмитрий Менделеев, создатель периодической таблицы). Потомство и ученики православного духовенства составляли большую часть интеллигенции по всей Российской империи. Духовенство насаждало ценности, остававшиеся с их детьми и учениками даже после их обмирщения, а именно трудолюбие, уважение к бедности, самоотверженность, и в первую очередь чувство нравственного превосходства [141].
Даже если Джугашвили находил противоречия в Библии, увлекался переводом «Жизни Иисуса» Эрнеста Ренана и не пожелал становиться священником, все это не означало, что он автоматически пойдет в революционеры. Революция не являлась выбором по умолчанию. Требовался еще один серьезный толчок. В случае Джугашвили им стали летние каникулы 1897 года, проведенные им в родном селе его близкого друга Михаила (Михо) Давиташвили, «где он познакомился с крестьянской жизнью» [142]. В Грузии, как и по всей Российской империи, ущербное освобождение крепостных мало чем помогло крестьянам, оказавшимся между молотом «выкупных» платежей за землю, предназначенных для их бывших хозяев, и наковальней потерявших всякий страх бандитов, спускавшихся с неприступных гор и вымогавших дань [143]. Освобождение крестьян в реальности стало «освобождением» для дворянских детей: оставшись без крепостных, они перебирались из поместий в города и вместе с крестьянской молодежью становились борцами за дело крестьянства [144]. Пробуждение грузина в Джугашвили привело его к осознанию угнетения грузинских крестьян грузинскими помещиками: мальчик, возможно, прежде желавший стать монахом, теперь хотел «стать сельским писцом» или старостой [145]. Но его чувство социальной несправедливости оказалось связано с его лидерскими амбициями. В подпольном кружке в стенах семинарии Джугашвили и его старший товарищ Девдариани не только были закадычными друзьями, но и состязались за роль вожака [146]. В мае 1898 года, когда Девдариани окончил семинарию и уехал в Дерптский (Юрьевский) университет в одной из прибалтийских губерний Российской империи, Джугашвили добился желаемого, став во главе кружка и придав его деятельности более практическую (политическую) направленность [147].
Как вспоминал Иосиф Иремашвили – еще один горийский Сосо, учившийся в семинарии, – «в детстве и юности он [Джугашвили] был хорошим другом, пока ты подчинялся его властной воле» [148]. И все же именно в то время у «властного» Джугашвили появился наставник, повлиявший на становление его личности – Ладо Кецховели. Ладо, будучи в 1893 году исключенным из семинарии за руководство забастовкой учеников, провел лето в качестве репортера газеты Чавчавадзе «Иверия», освещавшего тяжелую пореформенную жизнь крестьянства в своем родном Горийском уезде; после этого в соответствии с правилами Ладо получил право на продолжение обучения в другой семинарии, чем он и воспользовался, поступив в сентябре 1894 года в Киевскую семинарию. Однако в 1896 году он был исключен и оттуда после ареста за хранение «криминальной» литературы и был сослан под надзор полиции в свою родную деревню. Осенью 1897 года Ладо вернулся в Тифлис, присоединился к группе грузинских марксистов и поступил на работу в типографию, желая обучиться ремеслу печатника с тем, чтобы в дальнейшем издавать революционные листовки [149]. Кроме того, он восстановил связи с тифлисскими семинаристами. Кецховели пользовался среди них признанным авторитетом: его фотография висела на стене в комнате семинариста Джугашвили (вместе со снимками Михо Давиташвили и Пети Капанадзе) [150]. Несмотря на то что в Дешевой библиотеке Общества Чавчавадзе по распространению грамотности, возможно, и нашлось бы несколько марксистских текстов, включая, может быть, и работу самого Маркса («К критике политической экономии», первый из трехтомов «Капитала»), читающему Тифлису было далеко до Варшавы [151]. За начавшимся в 1898 году поворотом Сталина от типичной ориентации на социальную справедливость, известной как народничество, к марксизму в первую очередь стоял Ладо [152].
Марксизм и Россия
Карл Маркс (1818–1883), родившийся в прусской зажиточной семье, принадлежавшей к среднему классу, отнюдь не был первым современным социалистом. Такой неологизм, как «социализм», возник в 1830-е годы, более-менее одновременно с «либерализмом», «консерватизмом», «феминизмом» и многими прочими «измами», порожденными начавшейся в 1789 году французской революцией и одновременным распространением рынков. Одним из первых признанных социалистов был хлопковый барон Роберт Оуэн (1771–1858), желавший создать образцовую коммуну для своих наемных работников и с этой целью повысивший им заработную плату, сокративший продолжительность рабочего дня, строивший школы и жилые дома и боровшийся с пьянством и другими пороками – словом, стремившийся стать отцом для «своих» рабочих. Другие ранние социалисты, особенно французские, мечтали не только об улучшении условий человеческого существования, но и о построении совершенно нового общества. Граф Анри де Сен-Симон (1760–1825) и его последователи призывали к социальным экспериментам в условиях общественной, а не частной собственности с целью совершенствования общества и насаждения в нем принципов братства, разума и справедливости в духе «Республики» Платона. Шарль Фурье (1772–1837) пошел еще дальше, утверждая, что труд – основа существования и потому он должен облагораживать общество, а не вести к его дегуманизации; соответственно, он тоже строил проекты по созданию общества, подчиняющегося централизованному контролю [153]. Впрочем, не все радикалы выступали за централизованную власть: Пьер-Жозеф Прудон (1809–1865) нападал на банковскую систему, утверждая, что крупные банкиры не желают выдавать кредиты мелким собственникам и бедноте, и выступая за общество, организованное по принципу сотрудничества (взаимности), при котором государство станет ненужным. Он называл свою систему, основанную на мелкой собственности и сотрудничестве, анархизмом. Однако Маркс вместе со своим единомышленником, британским фабрикантом Фридрихом Энгельсом (1820–1895), утверждал, что социализм – не дело выбора, а «неизбежный итог» всеобщей исторической борьбы, подчиняющейся научным законам, вследствие чего нынешний строй, хотели ли этого люди или нет, был обречен на гибель.
Ужасы рынка обличали и многие консерваторы, но Маркс выделялся среди врагов нового экономического строя своими громогласными заявлениями о силе капитализма и современной промышленности. Шотландский просветитель Адам Смит в своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) выдвинул получившие широкое признание аргументы о том, что конкуренция, специализация (разделение труда) и сила своекорыстия работают на благо общества. Но 29-летний Маркс в своей яркой брошюре «Манифест Коммунистической партии» с восторгом писал о том, что «пар и машина произвели революцию в промышленности» и что «потребность в постоянно увеличивающемся сбыте продуктов гонит буржуазию по всему земному шару» [154]. До прорыва к «современной крупной промышленности» и глобализму, описывавшихся Марксом в 1848 году в качестве свершившихся фактов, нужно было ждать еще не одно десятилетие, даже в Великобритании, несмотря на промышленную революцию, происходившую здесь еще в пору германского детства Маркса. Но он предвидел все это. Прогнозируя будущее, Маркс, в отличие от Смита, утверждал, что глобальный капитализм утратит свой динамизм. В 1867 году он издал первый том своего трехтомного труда «Капитал», дававшего ответ не только Адаму Смиту, но и классику британской политической экономии Давиду Рикардо. Маркс постулировал, что источником всякой стоимости является человеческий труд и что владельцы средств производства присваивают «прибавочную стоимость», созданную рабочими. Иными словами, «капитал» – это присвоенный труд других людей. Собственники, – указывал Маркс, – инвестируют свою неправедно добытую прибавочную стоимость (капитал) в машины, позволяющие сэкономить на труде, и тем самым способствуют росту производства и общего богатства, и в то же время – снижению заработков и сокращению рабочих мест; в то время как рабочие, согласно Марксу, не способны вырваться из порочного круга обнищания, капитал концентрируется в руках все меньшего и меньшего числа людей, что препятствует дальнейшему развитию. В интересах дальнейшего экономического и социального прогресса Маркс призывал к отмене частной собственности, рынков, прибыли и денег.

