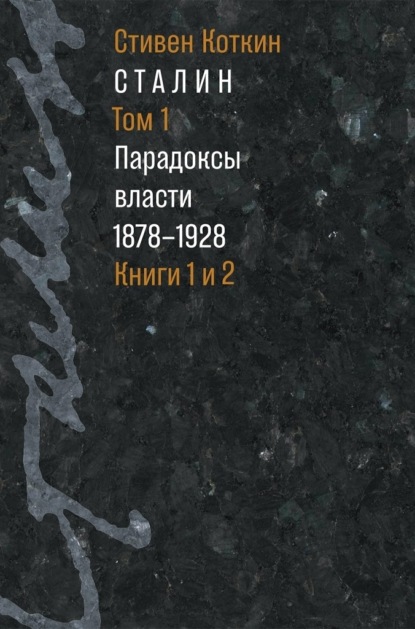
Полная версия:
Сталин. Том 1. Парадоксы власти. 1878–1928. Книги 1 и 2
Итогом всего этого полустихийного имперского строительства – при отсутствии иного – стало хитросплетение противоречий. Так называемые старообрядцы, православные христиане, отказывавшиеся признавать реформированную православную церковь либо русское государство и высланные либо бежавшие на «далекий» Кавказ, обнаружили, что они могут выжить лишь оказывая услуги «антихристу», то есть русской императорской армии. Но даже при этом ударные войска империи – казаки, прежде свободные и полудикие жители пограничья, превратившиеся в верных слуг самодержавия, – хронически не получали от властей необходимого довольствия и с тем, чтобы покупать оружие, были вынуждены обращаться к тем самым горцам, которых они пытались покорить. В свою очередь противостоявшие империи горцы в своих живописных черкесках – длинных шерстяных кафтанах с пришитыми к груди рядами кармашков для ружейных зарядов – набирались в свиту царя в Петербург [43]. Возможно, самое большое противоречие заключалось в том факте, что Российская империя вторглась на Кавказ в целом не по своей инициативе: христианские правители Грузии, отбивавшиеся и от мусульман-османов, и от мусульман-сефевидов, обратились к христианской России за помощью. Эта «помощь» на практике оказывалась ловкими агентами империи, пользовавшимися своей близостью к сцене, и вскоре приняла форму аннексий, осуществленных в 1801 и 1810 годах [44]. Россия отстранила от власти грузинскую династию Багратиони и заменила патриарха прежде независимой грузинской православной церкви митрополитом русской православной церкви (экзархом). И тем не менее в порядке очередного противоречия местный «русский» управленческий аппарат был переполнен грузинами, которым потакали как собратьям по вере. Благодаря русскому правлению грузинские элиты получили новые мощные инструменты, позволявшие им навязывать свою волю низшим социальным слоям, а также многим другим кавказским народам. Это и есть империя: набор договоренностей, наделяющих силой людей с амбициями.
В рамках Российской империи Грузия осуществляла свой собственный имперский проект [45]. Из насчитывавшихся в конце XIX века 8,5 миллиона жителей Кавказа около трети были мусульманами, а половина – православными, но из числа последних лишь 1,35 миллиона были этническими грузинами (по языку). Это меньшинство благодаря России приобрело такую власть, какой у него никогда не было. Разумеется, грузинам нравилось отнюдь не все, что принесло с собой русское правление. В 1840 году петербургское правительство империи объявило русский единственным языком официального делопроизводства на Кавказе. Эта мера последовала за подавлением раскрытого в 1832 году заговора по восстановлению грузинской монархии (ряд грузинских дворян планировали позвать местных русских должностных лиц на бал и там перебить их). Большинство заговорщиков было сослано в разные уголки Российской империи, но вскоре они получили разрешение вернуться и вновь поступить на российскую государственную службу: империя нуждалась в них. Подавляющее большинство представителей грузинских элит стало и в целом оставалось русофилами [46]. Вместе с тем новая инфраструктура способствовала преодолению барьеров, препятствовавших укреплению русских позиций. В 1811–1864 годах на юг от предгорного города Владикавказа через высокий горный перевал – над едва ли не бездонными ущельями – была пробита стратегически важная военная дорога к Тифлису, столице Грузии. Еще до конца века Закавказская железная дорога связала друг с другом Черное и Каспийское моря. Но в первую очередь карьерные возможности побуждали многих грузин овладевать русским языком – важнейшим элементом имперской инфраструктуры. Грузины заучивали и пересказывали истории о героическом сопротивлении Грузии российскому завоеванию, но в то же время они старались породниться с семействами, принадлежащими к русской элите, наслаждались русскими операми и питали неудержимую тягу к лоску имперских мундиров, титулов и наград, равно как и к удобным государственным квартирам, пособиям на поездки и денежным «подношениям» [47]. То, что предназначалось для элит, в меньших масштабах стало доступно и низам, воспользовавшимся возможностью учиться в новых русскоязычных школах, открытых на Кавказе под эгидой русской православной церкви. Из всего этого – из покорения Кавказа в сговоре с грузинами, русификации, проводившейся стараниями православной церкви, – и складывались имперские подмостки, на которые предстояло взобраться будущему Сталину [48].
Провинциальная идиллия
Гори («холм»), родной город будущего Сталина, разместившийся на холмах в долине реки Мтквари (Кура) в восточной Грузии, столетиями служил местом отдыха для караванов на пересечении трех дорог: одна вела на запад, к Черному морю, другая – на восток, к Каспию, и третья – через Цхинвальский перевал на север, в степи [49]. Иными словами, Гори не был какой-то дырой. В самом центре города, на высочайшем холме, возвышались желтые зубчатые стены крепости XIII века. За пределами города можно было увидеть еще одни руины – остатки садов вельмож, которые жили здесь, когда Гори в XVII веке был столицей грузинского государства Картли. Кроме того, неподалеку находились знаменитые источники минеральных вод в Боржоми, где брат Александра II, наместник Кавказа, выстроил себе летнюю резиденцию. В самом Гори, прямо под развалинами старинной крепости, лежал Старый город. Второй район, Центральный квартал, мог похвастаться многочисленными армянскими и грузинскими церквями, в то время как третий, где располагались казармы имперского гарнизона, был прозван «Русским кварталом» [50]. В 1871 году этот перекресток стал узловой станцией на русской имперской железной дороге между Тифлисом, столицей Кавказа, и Поти, портом на Черном море (захваченном у османов в 1828 году). В 1870-х годах узкие, извилистые, грязные улочки Гори служили обиталищем примерно для 7 тысяч человек, чуть больше половины которых составляли армяне; остальными были грузины, которых дополняли несколько сотен русских, а также какое-то количество абхазов и осетин, перебравшихся из соседних национальных сел. Горийские купцы вели торговлю с Ираном, Османской империей и Европой. Благодаря наличию крупной купеческой прослойки, а также православной церкви в Гори имелись четыре школы, включая располагавшееся в крепком двухэтажном здании духовное училище, основанное церковными властями в 1818 году, вскоре после присоединения Грузии к Российской империи [51]. Следствием этого было то, что если в Тифлисе в школу ходил каждый пятнадцатый из жителей – по сравнению с каждым тридцатым на Кавказе в целом, – то в Гори училась десятая часть населения [52]. Это открывало мальчикам, родившимся на этом «холме», двери в будущее.
Отец будущего Сталина, Бесарион Джугашвили (1850–1909), на русском известный как Виссарион, а сокращенно – Бесо, был родом не из Гори. Его дед по отцу (Заза), крепостной, когда-то попавший под арест за участие в крестьянском восстании, возможно, жил в национальной осетинской деревне; отец Бесо – Вано, тоже крепостной, – разводил виноград в насчитывавшем менее 500 жителей селе Диди-Лило («Большое Лило»), где и родился Бесо. Вано возил виноград в соседний Тифлис, до которого было около десяти миль; он умер, не дожив до пятидесяти. Вскоре после этого разбойники убили другого сына Вано, Георгия, содержателя харчевни, и Бесо покинул Диди-Лило, в поисках работы отправившись в Тифлис, где он выучился ремеслу сапожника в мастерской, принадлежавшей армянину. Бесо немного говорил по-армянски, по-азербайджански, по-турецки и по-русски, хотя неизвестно, умел ли он писать на родном грузинском. Около 1870 года, в 20-летнем возрасте, он перебрался в Гори – судя по всему, по приглашению другого армянского предпринимателя, Барамянца (в русском варианте – Иосиф Барамов). Тот был хозяином сапожной мастерской, получивший заказ на снабжение имперского гарнизона в Гори [53]. Российская империя представляла собой один огромный гарнизон. К 1870 году численность войск по всей Сибири составляла всего 18 тысяч человек, но в Харькове, Одессе и Киеве насчитывалось 193 тысяч солдат и в Варшаве – еще 126 тысяч. В тот момент, когда гарнизон всей Британской Индии составлял 60 тысяч солдат, к которым прибавлялась тысяча полицейских, на Кавказе у Российской империи имелось 128 тысяч солдат. И вся эта масса войск нуждалась в обуви. Барамянц нанял некоторое число опытных сапожников, включая Бесо, который явно радовался такому успеху и, очевидно, был человеком амбициозным. При финансовом содействии «князя» Якоби (Якова) Эгнаташвили, горийского виноградаря, владельца духана (кабака) и чемпиона по борьбе, Бесо вскоре открыл собственную сапожную мастерскую, став независимым кустарем [54].
Бесо отправил сваху, чтобы она добилась для него руки Кетеван (Кеке) Геладзе, которая предстает в описаниях стройной красивой девушкой с каштановыми волосами и большими глазами [55]. Она тоже имела среди своих предков крепостных и тоже стремилась к лучшей доле. Ее фамилия часто встречалась в южной Осетии, и этот факт повлек за собой предположения о том, что в ней, как и в Бесо, текла осетинская кровь, хотя ее родным языком был грузинский. Отец Кеке, каменщик и крепостной, работавший садовником у богатого армянина и живший в деревне поблизости от Гори, был женат на такой же, как он, крепостной крестьянке, но, судя по всему, скончался незадолго (или сразу после) рождения Кеке. Мать Кеке позаботилась о том, чтобы девочка научилась читать и писать; в то время среди грузинок было очень немного грамотных. Но затем мать Кеке тоже умерла, и девочку воспитывал брат матери, тоже крепостной. Крепостное право в Грузии было очень причудливым даже по стандартам лоскутной Российской империи: в крепостных у главных грузинских аристократов могли состоять мелкие дворяне и священники, а священники могли владеть мелкими дворянами. Отчасти так сложилось потому, что царское правительство с немалым уважением относилось к обширному грузинскому дворянству, на которое приходилось 5,6 % грузинского населения, в то время как доля дворян по империи в целом составляла всего 1,4 %. Отмена крепостного права на Кавказе началась тремя годами позже, чем в остальной империи, в октябре 1864 года. Примерно тогда же семья Кеке перебралась из деревни в Гори. «Каким радостным было это путешествие! – делилась она под конец жизни своими воспоминаниями с интервьюером. – Гори был украшен к празднику, людские толпы колыхались подобно морю» [56]. Геладзе получили свободу, но теперь им предстояло как-то устраивать новую жизнь.
Бракосочетание Бесо и Кеке, состоявшееся в мае 1874 года в горийском Успенском соборе, отмечалось, как принято в Грузии, с большой помпой, и сопровождалось шумным, показным шествием через весь город [57]. Одним из шаферов у Бесо был его благодетель Яков Эгнаташвили. Говорят, что отец Христофор Чарквиани, тоже друг семьи, так красиво пел на церемонии венчания, что князь Яков по-царски одарил его десятью рублями. Бесо, подобно большинству грузин – и грамотных, и неграмотных, – мог цитировать отрывки из написанной в XII веке эпической поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», в которой рассказывается, как три благородных друга спасают девушку, принуждаемую к браку. Бесо, как и положено настоящему кавказскому мужчине, любил наряжаться в длинную черкеску, перепоясанную кожаным поясом, и шаровары, заправленные в кожаные сапоги. Правда, было известно, что он пропивал часть своих заработков; но опять же, согласно местным обычаям, его клиенты нередко расплачивались с ним домашним вином. Впрочем, при всех его типичных изъянах Кеке рассматривала брак с кустарем как шаг вверх. «Среди моих подруг он считался очень популярным молодым человеком и все они мечтали выйти за него замуж, – вспоминала она в интервью. – Мои подруги едва не полопались от зависти. Бесо был завидным женихом, настоящим грузинским рыцарем, обладателем красивых усов, очень хорошо одетым – и в нем чувствовалась та особая утонченность, что свойственна горожанам». К этому она добавляла, что Бесо мог быть «необычным, странным и угрюмым», но вместе с тем «умным и гордым». «Среди моих подруг, – резюмировала Кеке, – я оказалась самой желанной и красивой девушкой» [58].
В декабре 1878 года, через четыре года после свадьбы, когда Кеке было около двадцати, а Бесо – 28, у пары родился сын Иосиф – будущий Сталин [59]. Собственно говоря, Иосиф был у Бесо и Кеке третьим сыном, что согласно грузинской и православной традициям считалось знаком особой господней милости. Но их предыдущие дети не выжили. Первенец Бесо и Кеке, Михаил, родившийся в начале 1876 года, прожил два месяца; их второй сын (Георгий) умер в июне 1877 года, прожив около полугода [60]. Иосиф, которого звали уменьшительным грузинским именем Сосо (или Сосело), рос в семье единственным ребенком, лишь впоследствии узнав о том, что у него были братья. Семья снимала у осетинского ремесленника маленький домик, выстроенный из дерева и кирпича и имевший всего одну комнату. Он находился в Русском квартале Гори, рядом с казармами императорских войск, для которых Бесо тачал сапоги. Обстановка этого строения площадью всего в 90 квадратных футов состояла из стола и четырех табуреток, топчана, самовара, сундука и керосиновой лампы. Одежда и прочие пожитки хранились на открытых полках. Впрочем, при домике имелся погреб, куда вела винтовая лестница, и именно там Бесо держал свои инструменты и оборудовал свою мастерскую, а Кеке устроила там ясли для Сосо [61]. Иными словами, жизнь Сталина с самых первых ее дней протекала в подполье.
Невзирая на эти скромные обстоятельства, в истории семьи Джугашвили просматривались задатки провинциальной идиллии: муж-кустарь, красавица-жена и (выживший) сын. Говорят, что Кеке никогда не выпускала его из виду [62]. Начиная примерно с двухлетнего возраста Сосо перенес обычный набор детских болезней (корь, скарлатину), и Кеке, боясь потерять еще одного сына, часто ходила в церковь молиться. Кроме того, у нее было мало молока и Сосо приходилось питаться молоком соседок: госпожи Эгнаташвили и Машо Абрамидзе-Цихитатришвили. Тем не менее он рос очень живым ребенком. «Сосо был самовольный ребенок, – вспоминала Машо, – когда мать звала его, иначе как по своему желанию он не бросал игры» [63].
Геополитический разлом, помощь приемной семьи
Маленький Сосо, бегавший по улицам своего холмистого грузинского городка, понятия не имел о проблемах большого мира, но в том самом десятилетии, когда он родился, Германия демонстративно провозгласила основание Второго немецкого рейха – первым считалась рыхлая Священная Римская империя. Это произошло в Зеркальном зале Версальского дворца, где великий французский король-солнце Людовик XIV когда-то дал аудиенцию многочисленным мелким немецким князьям. Геополитический разлом, связанный с объединением Германии и ее последующей стремительной индустриализацией, радикально изменил российское геополитическое окружение. Не столь демонстративным, но имевшим почти такие же серьезные последствия был переворот, осуществленный в 1868 году в Эдо (Токио) группой японских заговорщиков, которые свергли династию сегунов Токугава и в порядке оправдания своего бунта номинально «восстановили» власть бездействующего императора, который взял себе имя Мэйдзи («просвещенное правление»). Процесс смены власти шел непросто: в ряде крупных регионов разразились восстания. Однако к 1872–1873 годам почти каждый заметный представитель нового японского руководства побывал в составе посольств в Европе и в Америке, не только лично ознакомившись с чудесами современного мира, но и убедившись в том, что этот мир не монолитен. Новые вожди Японии решили воспользоваться этим в полной мере и взять на вооружение все лучшее, что могла дать каждая страна; централизованная французская система образования импонировала им сильнее, чем рыхлая американская, но вместо французской армии они в итоге избрали в качестве образца немецкую систему с профессиональными офицерами и Генеральным штабом, в то же время решив строить флот на британский манер. «Следует искать знания по всему миру, – объявил император Мэйдзи, – с тем, чтобы укреплять ими основы имперского государства». Этими словами он на века сформулировал рецепт превращения в великую державу. Вообще говоря, новые школы и прочие иностранные заимствования часто сталкивались с сопротивлением, и преобразования были бы невозможны, если бы за ними не стояла вся мощь государства. Более того, последующая японская индустриализация не дала таких же результатов, что и германская. Тем не менее японская экономика тоже испытала взлет, который резко изменил баланс сил в Азии и привел к появлению новой державы на другом фланге России.
Наконец, в том же десятилетии, когда родился Сталин, Соединенные Штаты Америки превратились в крупнейшую в мире интегрированную национальную экономику. США лишь незадолго до этого вышли из гражданской войны, которая сопровождалась потерями в 1 миллион человек (включая 600 тысяч погибших) из 32-миллионного населения страны, а также была отмечена появлением броненосцев, воздушных шаров как средств ведения разведки, окопной войны и дальнобойных винтовок. (Кроме того, эта война лишила немецкого журналиста Карла Маркса денег, которые ему приносила внештатная работа на газету New York Tribune, поскольку та потеряла интерес к европейским делам.) Однако вопреки надеждам конфедератов фабрики Севера не остановились из-за прекращения поставок хлопка-сырца с Юга (нехватку сырья удалось восполнить хлопкоробам Египта и Индии). Некоторые британские политики, включая Уильяма Гладстона, выражали поддержку Югу, надеясь на ослабление США, но британское правительство так и не признало независимости конфедерации. Если бы на американском Юге одержало победу и сложилось независимое аграрное государство – представлявшее собой одну из крупнейших рабовладельческих систем в современном мире, – Британия в XX веке была бы обречена и весь ход мировых событий принял бы радикально иной оборот. В 1860 году общая стоимость южных рабов втрое превышала сумму инвестиций в строительство железных дорог, будучи более крупным капиталом, чем какой-либо иной актив в Америке, помимо земли, но вместо рабовладельческого, хлопководческого Юга победу одержал промышленный Север. В 1870–1900 годах воссоединившаяся американская экономика подверглась индустриализации и утроилась в объеме (чему способствовала и массовая иммиграция из неанглоязычных, непротестантских обществ): этот мощный прирост затмил даже экономический рост в Германии и Японии, а доля США в мировом производстве подскочила почти до 30 %. Американский экономический колосс, если не считать колониальных войн США на Филиппинах и Кубе, до сих пор в основном держался в стороне от мировой политики. И все же США уже нависали своей мощью над всей мировой системой и вскоре им предстояло доказать, что последнее слово в ней остается за ними.
Эти грандиозные геополитические сдвиги, сопутствовавшие рождению и первым годам жизни Сталина, – объединение и индустриализация Германии, возникновение сплоченной, индустриализованной Японии, становление в лице Америки величайшей державы в мировой истории, – со временем потрясли царский режим до основания, а впоследствии заставили считаться с собой и Сталина. Разумеется, юный Сосо Джугашвили вряд ли имел какое-то представление о геополитических процессах, определявших облик его мира. Между тем в 1880-х годах в Гори его гордый молодой отец Бесо Джугашвили в знак своих скромных успехов взял себе в мастерскую двух учеников. Один из них вспоминал, что всегда видел масло на столе у Джугашвили, хотя семья, судя по всему, жила скромно, питаясь преимущественно лобио и лавашами, а также картошкой и блюдом «бадриджани нигвзит» (рулетики из баклажан, фаршированные грецкими орехами с пряностями) [64]. Другой ученик, Вано Хуцишвили, который был всего на год младше Сосо, на какое-то время стал ему почти что молочным братом [65]. Дом наполняла музыка – Кеке услаждала слух Сталина полифоническими мелодиями грузинских народных песен. Бесо, подобно большинству грузинских мужчин, умел играть на таких традиционных инструментах, как дудук с его двойной тростью (на нем Бесо играл на своей свадьбе). В то же время Бесо, судя по всему, мог уходить в себя. До нас дошло лишь несколько описаний его внешности, сделанных знавшими его людьми. По словам одного из них, он был «худощавым человеком, имевшим рост выше среднего. У него было вытянутое лицо и длинный нос и шея. Он носил усы и бороду, а волосы у него были черные как смоль». Впоследствии в качестве «настоящего» отца Сталина назывался ряд других людей. Но согласно двум очевидцам, Сосо был вылитой копией своего отца [66].
Какой бы ни была роль Бесо как отца и какие бы обещания ни нес в себе семейный союз с Кеке, их брак потерпел крах. Большинство биографов, принимая версию Кеке, обычно возлагают вину за это на алкоголизм Бесо и на терзавших его демонов, утверждая либо то, что он был пьяницей от природы, либо то, что он пристрастился к бутылке от горя после безвременной смерти своего первенца и уже не мог остановиться [67]. Может быть, так и было, хотя после той первой трагедии и, в частности, после рождения Сосо мастерская Бесо как будто бы какое-то время еще работала. Вообще говоря, не исключено, что традиционной грузинской обуви, которую он делал, было трудно конкурировать с новыми европейскими стилями [68]. При этом причиной проблем вполне мог быть флирт еще молодой и красивой Кеке с женатыми мужчинами: Яковом Эгнаташвили, хозяином духана в Гори и чемпионом по борьбе, Дамианом Давришеви, полицейским из Гори, и местным священником Христофором Чарквиани – каждого из них молва впоследствии называла настоящим отцом будущего Сталина. Вправду ли Кеке была кокетливой женщиной, неизвестно, и тем более неизвестно, изменяла ли она мужу. Она вышла замуж за кустаря Бесо, руководствуясь амбициями, и вполне могла положить глаз на более многообещающего мужчину. Возможно, они сами осаждали ее [69]. У нас нет надежных свидетельств о возможных романах матери будущего Сталина. Тем не менее по Гори ходили сплетни о неверности Кеке. Бесо взял за обычай называть своего сына «маленьким ублюдком Кеке», а однажды он вроде бы пытался задушить жену, обзывая ее «шлюхой» [70]. (Достаточно обычный эпитет.) Кроме того, считается, что Бесо разгромил духан Эгнаташвили и напал на полицейского начальника Давришеви, который, в свою очередь, возможно, потребовал от Бесо убираться из Гори. И действительно, около 1884 года Бесо перебрался в Тифлис, где нанялся на обувную фабрику армянина Адельханова.
Кто бы ни был виноват, итогом стал распад семьи [71]. К 1883 году Кеке и маленький Сосо вели кочевой образ жизни, за следующие десять лет не менее девяти раз сменив жилище. И это была не единственная беда, поджидавшая мальчика. В том же году, когда его отец ушел из семьи, маленький Сосо заразился оспой во время эпидемии, опустошившей множество домов в Гори. Она унесла жизни трех из шести детей их соседа Эгнаташвили. Кеке обращалась за помощью к знахарке. Сосо выжил. Но его лицо было навсегда обезображено и к нему прилипла кличка Рябой (Чопура). Примерно в то же время (в 1884 году) у шестилетнего Сосо что-то случилось с левым плечом и предплечьем, из-за чего ему стало затруднительно пользоваться левой рукой. Это объяснялось разными причинами: несчастным случаем во время катания на санках или борьбы, либо тем, что на мальчика наехал фаэтон, после чего из-за занесенной в рану инфекции у Сосо началось заражение крови [72]. Сосо действительно попал под фаэтон (такие экипажи были в Гори редкостью) рядом с городским католическим собором – возможно потому, что он вместе с другими мальчиками, играя в «ястребы и голуби», пытался цепляться за его оси [73]. С другой стороны, его сухорукость могла быть наследственной. Как бы то ни было, состояние руки с течением времени ухудшалось. Впрочем, Кеке не теряла предприимчивости. С тем чтобы заработать себе и сыну на жизнь, она стирала и чинила чужую одежду и прибиралась в домах у своих клиентов, в том числе и у семейства Эгнаташвили, у которых Сосо часто обедал. В 1886 году они с матерью перебрались на верхний этаж дома отца Чарквиани, одного из бывших закадычных друзей и собутыльников Бесо. Возможно, что причиной переезда была бедность, но также не исключено, что это был просчитанный шаг: Кеке умоляла Чарквиани взять Сосо в горийское духовное училище осенью 1886 года, когда тому будет уже почти восемь лет. Когда ей в этом было отказано, она упросила священника дать разрешение на то, чтобы Сосо был допущен к урокам русского, которые его собственные сыновья-подростки давали своей младшей сестре; эта девочка, возможно, стала первой любовью юного Сталина.
План Кеке сработал, чему способствовали и амбиции самого Сосо. Биографы нередко подчеркивают, что будущий Сталин верховодил «уличной шайкой» в Гори, словно уличные шалости – дело необычное для мальчика-подростка, будь то на Кавказе или где-либо еще [74]. Скорее, он выделялся своей начитанностью и склонностью к самообразованию, которые служили источником его развития. В сентябре 1888 года, когда ему было почти десять, он в числе примерно 150 мальчиков, в подавляющем большинстве семи- или восьмилетнего возраста, поступил в духовное училище, чтобы пройти обязательный для грузинских мальчиков курс начального обучения. Он был рассчитан на два года, но Сосо настолько хорошо владел самостоятельно освоенным им русским, что для прохождения всего курса ему хватило года. Осенью 1889 года он приступил к основному четырехлетнему курсу занятий, на которых его часто хвалили за прилежание, а также за его мелодичный альтовый голос – и это служило источником гордости для мальчика. Кроме того, наконец-то он избавлялся от материнской опеки – по крайней мере на часть дня. Однако 6 января 1890 года, на праздник Крещения – отмечаемый православной церковью в память о крещении Иисуса в Иордане – в толпу зрителей, среди которых стоял и церковноприходской хор – влетел неуправляемый фаэтон. Вторично попасть под фаэтон! «Сосо хотел перескочить через улицу, – вспоминал Симон Гогличидзе, учитель пения из духовного училища, – но неожиданно на него налетел фаэтон, ударил его дышлом в щеку» [75]. Потерявшего сознание Сосо отнесли домой. Мы никогда не узнаем, насколько близко 11-летний будущий Сталин был к гибели [76]. Возницу на месяц посадили в тюрьму. «По счастью, – резюмировал Гогличидзе, – колеса переехали лишь по ногам мальчика», не задев его головы [77]. Но после этого несчастного случая Сталин до конца жизни прихрамывал, заработав второе уничижительное прозвище – Калека (Геза).

