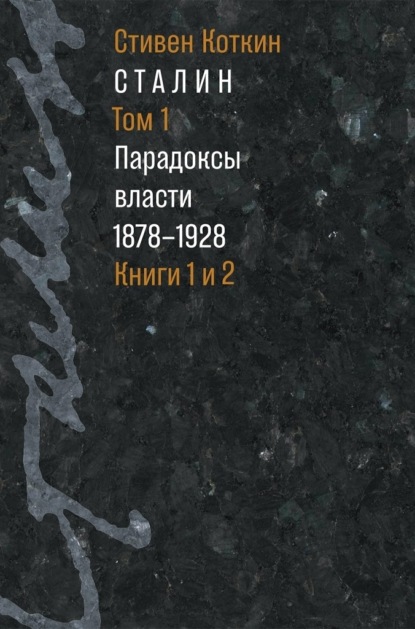
Полная версия:
Сталин. Том 1. Парадоксы власти. 1878–1928. Книги 1 и 2
Столыпин рассчитывал в полной мере воспользоваться новым шансом, полученным режимом благодаря Дурново с его решительными карательными мероприятиями, в рамках новой ситуации, созданной стараниями Витте, успешно навязавшего царю квазиконституционализм Октябрьского манифеста. Столыпин в свою бытность премьер-министром (1906–1911) пытался на свой манер перестроить российскую политическую систему. Однако консервативный российский политический истеблишмент, разъяренный конституционным самодержавием, решительно противодействовал стараниям Столыпина создать новое государство за его счет. Левые по различным причинам – их отрезвило поражение восстания 1905 года и столыпинские репрессии – тоже впали в отчаяние. Вообще говоря, наш герой, Иосиф (Коба) Джугашвили, совершил свои самые знаменитые революционные подвиги именно при Столыпине. Но принесла ли эта подрывная деятельность какие-либо серьезные плоды – вопрос спорный. И наоборот, цели и фиаско программы столыпинских реформ, как и реформ, проводившихся до него Витте, многое говорят нам о будущем режиме Сталина. В тот момент, взирая на мир сквозь призму канонического марксизма, будущий Сталин не имел почти никакого понятия о том, через что пришлось пройти Столыпину. Сталин никогда не встречался с ним, но впоследствии он в очень значительной степени повторил путь царского премьер-министра.
Второй российский претендент на роль Бисмарка
В качестве определяющих черт Российской империи, пожалуй, можно назвать два момента. Во-первых, российский экспорт обеспечивал питанием и Германию, и Англию, но сельское хозяйство страны оставалось крайне неэффективным: в России наблюдалась самая низкая урожайность в Европе (она была выше даже в Сербии, которая считалась не более чем ее «младшей сестрой»); урожайность на единицу посевной площади здесь была в два с лишним раза ниже, чем во Франции и даже в Австро-Венгрии [423]. По этой причине крестьянский мир представлялся проблемой, требовавшей срочного решения. Во-вторых, российская политическая жизнь становилась яростной, самоубийственной, безумной. Многие представители элиты, и не в последнюю очередь Николай II, ожидали, что первые выборы, состоявшиеся в 1906 году, дадут стране консервативную крестьянско-монархическую Думу. Но вместо этого победу на выборах одержали конституционные демократы, что поразило даже самих кадетов. Классические российские либералы, придя к власти с помощью избирательной урны, не выказывали ни малейшего желания сотрудничать с самодержавием, а Николай II не имел никакого намерения идти на компромисс с ними [424]. Более того, несмотря на то что социалистические партии бойкотировали первые думские выборы, они изменили свою позицию и получили десятки мест во Второй думе (отчасти благодаря голосам крестьян). Естественно, охранка учредила надзор за депутатами, пользуясь услугами осведомителей и прослушивая телефонные разговоры [425]. Тем не менее у тайной полиции не имелось ответа на политическую неуступчивость, проявленную всеми сторонами. Более того, последней очень сильно способствовала кошмарная процедура принятия законов Думой. Не существовало никаких механизмов для отделения важных дел от второстепенных, поэтому решительно по всякому поводу принимались законы, хотя маловажные вопросы вполне могло решать правительство в рабочем порядке. Кроме того, как ни странно, в Думе не имелось никакого четкого графика принятия законопроектов; до того как ставить их на голосование, они рассматривались в многолюдных депутатских комиссиях, причем некоторые комиссии могли изучать один-единственный законопроект до полутора лет. Когда законопроекты наконец выносились на суд Думы, она снова обсуждала их в полном составе, затягивая дело до бесконечности [426]. В таких процедурных мелочах могли утонуть любые начинания, особенно в тех случаях, когда взаимно оппозиционные политические силы были не способны достичь согласия.
С точки зрения конституционных демократов, проблема заключалась в том, что российская конституционная революция не ликвидировала самодержавия. Более того, Николай II воспользовался своими прерогативами, чтобы распустить Думу первого созыва всего после 73 дней ее работы. Согласно статье 87 Основных законов самодержец имел право издавать законы в перерывах между сессиями Думы. (Теоретически такие законы требовали утверждения Думой после того, как она возобновляла работу, но они оставались в силе, пока шли дебаты [427].) Выбранная в 1907 году Вторая дума, в еще большей степени игравшая роль трибуны для антиправительственных выступлений, продержалась менее девяноста дней. После этого, 3 июня 1907 года, Столыпин в одностороннем порядке в еще большей степени сузил думскую избирательную базу: с его подачи Николай II воспользовался статьей 87 для изменения положений о выборах, что недвусмысленно запрещалось Основными законами [428]. «Переворот!» – восклицали конституционные демократы, представлявшие собой одну из двух главных мишеней этого столыпинского маневра (второй мишенью являлись представители еще более левых партий). Да, это был переворот. Однако, с точки зрения Столыпина, кадетов тоже едва ли можно было назвать ангелами: в 1905–1907 годах они содействовали антиправительственному терроризму, публично осуждая его, но втайне поощряя с тем, чтобы ослабить самодержавие. В результате этого сговора были убиты многие царские чиновники средней руки [429]. Но если придворные интриганы понукали Николая II покончить с думским «экспериментом», то Столыпин пытался сотрудничать с законодателями с тем, чтобы подвести под висевшее в пустоте российское правительство какую-то политическую опору, совместимую с самодержавием. «Нам нужны не профессора, а люди с корнями в стране, местное дворянство и прочие в том же роде», – заявил Столыпин профессору Бернарду Пересу, основателю британской русистики, в мае 1908 года [430].
Столыпин был прав в отношении того, что законодательная работа требовала чего-то большего, нежели некий «мистический союз» между царем и народом. Как и его очень недолговечный предшественник, Сергей Витте, он воображал себя русским Бисмарком. «Я ни в коем случае не выступаю за абсолютистское правительство, – объявил «железный канцлер» в германском рейхстаге. – Я считаю сотрудничество с парламентом – должным образом поставленное – необходимым и полезным в той же мере, в какой я считаю власть парламента вредной и невозможной» [431]. Российский премьер-министр тоже признавал парламент, но не признавал парламентаризма (строя, при котором правительство подконтрольно парламенту), а русская Дума, как и немецкий рейхстаг, являлась представительным институтом, который откровенно пытались сделать непредставительным. Вообще говоря, немецкий избирательный закон был намного более инклюзивным: право голоса имели все немецкие мужчины, достигшие 25-летнего возраста. Более того, работу российской Третьей думы вследствие событий 3 июня 1907 года, ставших ее первопричиной, неизбежно омрачало ожидание новых переворотов, что служило источником нестабильности. Но согласно расчетам Столыпина, такую цену нужно было заплатить, чтобы получить юридические средства для модернизации страны.
В Саратове Столыпин наблюдал те же несправедливости, свидетелем которых на Кавказе был молодой радикал Сталин: рабочие страдали от широко распространенного травматизма и трудились с утра до ночи за гроши, в руках у дворян находились обширные имения, а оборванным крестьянам приходилось обрабатывать крохотные наделы. Получив назначение на пост премьер-министра, Столыпин приступил к проведению обширных социальных реформ. Германские промышленные рабочие благодаря второму пункту стратегии Бисмарка (выбившему почву из-под ног у левых) получили доступ к страхованию от болезней, несчастных случаев и старости, а также к столовым, субсидируемым государством; Столыпин хотел как минимум создать систему социального страхования для трудящихся [432]. Впрочем, в первую очередь он стремился к тому, чтобы крестьяне выходили из передельных общин и консолидировали свои наделы в более продуктивные земельные участки.
Русская элита, обычно относившаяся к крестьянскому обществу как к чему-то отсталому и чужеродному, разделяла намерение преобразовать его [433]. (Хотя на самом деле сторонний наблюдатель мог рассматривать русское правительство как отдельное общество, отчужденное от империи в целом и особенно от крестьян, составлявших подавляющее большинство населения [434].) В глазах элиты крестьянский вопрос был в первую очередь вопросом экономики, поскольку русский истеблишмент пришел к мнению об усиливавшемся обеднении крестьян; некоторые должностные лица, включая Витте в его бытность министром финансов, объявляли «крестьянское неустройство» главным препятствием к индустриализации и геополитическому усилению России [435]. Столыпин шел еще дальше, рассматривая крестьянство как политическую проблему, определяющую облик режима. Такая точка зрения не была уникально российской. Прусские реформаторы 1820-х годов, стремясь пресечь влияние французской революции, утверждали, что крестьяне-собственники – единственные надежные защитники правопорядка и государства [436]. Точно так же считал и Столыпин. Вместо того чтобы возлагать вину за сельские беспорядки на сторонних «революционных агитаторов», Столыпин указывал на низкий уровень жизни в деревне, отмечая при этом, что крестьянские волнения в 1905–1906 годах в значительной степени носили общинный характер [437]. Более того, исходя из своего знакомства с западным приграничьем, где не было общин, Столыпин делал вывод о том, что процветающая деревня, населенная хозяевами-индивидуалистами, – мирная деревня. Соответственно, его аграрная реформа, проводившаяся согласно указу от 9 ноября 1906 года, имела своей целью поднять сельскохозяйственную производительность и ликвидировать основу крестьянских волнений путем создания среди крестьян класса независимых собственников, которые получат от государства кредиты и доступ к технологиям, а дальше будут предоставлены сами себе. Иными словами, Столыпин стремился преобразовать как физический сельский пейзаж, заменив разрозненные земельные наделы, получаемые от общины, консолидированными фермами, так и психологию жителей села [438].
В глобальном плане для эпохи, когда Столыпин занимал должность премьер-министра, было характерно повышенное стремление к расширению возможностей государства. Общества с государственным устройством всех типов – от французской Третьей республики до Российской империи – осуществляли амбициозные проекты, такие, как сооружение каналов, шоссе и железных дорог с целью повышения сплоченности своих территорий и рынков. Кроме того, они поощряли заселение новых земель, субсидируя фермеров, осушая болота, укрепляя берега рек дамбами и проводя ирригацию полей. Подобный государственный курс на преобразования – строительство инфраструктуры, управление населением и ресурсами – нередко сперва испытывался в заморских владениях (колониях), а затем брался на вооружение в метрополиях; бывало и так, что сперва им занимались в метрополии, а затем применяли за рубежом или в тех регионах, которые считались имперской периферией. Страны, в которых установилось правовое государство, при управлении своими заморскими территориями нередко воплощали в жизнь многие принципы социотехники, характерные для стран, в которых отсутствовало правовое государство, но что касается метрополий, либеральные государства отличались от авторитарных в плане того, какие практики считались приемлемыми или возможными [439]. Однако что обращает на себя внимание во всех случаях обращения государства к социотехнике, так это то, насколько редко будущие «технократы» усматривали пользу в превращении подданных (будь то жители метрополии или колоний) в граждан, и тем более необходимость такого превращения. В целом технократы относились к «политике» как к помехе для эффективного управления. В этом отношении выдвинутая Столыпиным идея кооптировать крестьян – по крайней мере «крепких и трезвых» из их числа – в социополитическую структуру страны на равной основе с другими подданными была весьма радикальной. Вообще говоря, Столыпин стремился к тому, чтобы для обладателей собственности на кону стояло не только наличие формального права голоса. Тем не менее один из советников премьер-министра назвал его «новым явлением» на русской сцене, поскольку тот стремился заручиться политической поддержкой со стороны некоторых слоев народных масс [440].
Столыпинская реформа стала гибко поставленным экспериментом, вобравшим в себя годы предшествовавших дискуссий и попыток и допускавшим корректировку в процессе осуществления [441]. Но как политическая отдача со стороны нового слоя лояльных фермеров, так и мощный экономический рывок, замышлявшийся Столыпиным, не оправдали надежд. Разумеется, в любой политической системе крупные реформы всегда чреваты провалом, поскольку общественные институты оказываются более сложными, чем предполагалось. На практике русская крестьянская община проявила себя в качестве более гибкого политического института, чем считали ее критики [442]. Тем не менее разделение общинной земли на отдельные наделы требовало согласования с другими жителями села и не позволяло держателям земли продавать ее, закладывать, сдавать в аренду и передавать ее во владение другим лицам, в то же время препятствуя и инвестициям в наделы, которые могли быть отняты у их держателей. Община защищала крестьян от катастрофы в трудные времена, хотя и для этого требовалось, чтобы они объединяли свои ресурсы и не имели права их изъять, причем община при этом не допускала сокращения числа ее членов. Реформа отменяла необходимость получать формальное согласие общины на выход из нее. Однако он все равно осложнялся бюрократической (судебной) волокитой, а также социальными трениями. Тем не менее в ходе реформы из общины удалось выйти заметному меньшинству крестьян – до 20 % из 13 миллионов крестьянских домохозяйств европейской России. Тем не менее этим новым мелким земельным собственникам в целом не удалось избежать обработки мелких разрозненных наделов в общинном стиле [443]. (Иногда земельный участок был разделен на 40 или 50 наделов.) По причине нехватки землемеров, а также прочих факторов многим крестьянам, получившим землю в частное владение, не всегда удавалось выделить ее в один участок [444]. Нередко крестьяне с наиболее сильно развитым чувством индивидуализма просто отправлялись в Сибирь, поскольку сопровождавшее реформу укрепление прав собственности существенно стимулировало миграцию в поисках новых земель, но это снижало производительность на покинутых ими полях [445]. Запутанность земельного вопроса порой могла кого угодно поставить в тупик. Но там, где приватизированная и даже неприватизированная земля выделялась в один участок – что и являлось ключевой целью экономических реформ Столыпина, – производительность существенно возрастала [446].
Тем не менее экономические и прочие реформы Столыпина в конечном счете натолкнулись на жесткие пределы, поставленные структурным реформам политикой. Столыпину пришлось инициировать свои смелые аграрные преобразования с помощью чрезвычайного указа в соответствии со статьей 87 Основных законов, пока Дума была распущена, и эти новшества вызвали упорное сопротивление со стороны имущего истеблишмента. Его представители, как и другие слои, противодействовали столыпинскому курсу на модернизацию, сопряженному с аграрной реформой [447].
Российский премьер-министр пытался не только переустроить крестьянское землевладение и кредит и учредить для рабочих страхование от несчастных случаев и по болезни, но и распространить местное самоуправление на католический запад империи, ликвидировать юридическое неравноправие евреев, расширить гражданские и религиозные права и вообще создать работоспособное центральное правительство и государство [448]. Но его правительство столкнулось с необходимостью подкупать многих выборных консервативных думских депутатов, чтобы получить их голоса. Но даже это не помогло Столыпину получить достаточное число голосов для принятия его главных законопроектов. В свод законов вошли только аграрная реформа и выхолощенная версия страхования для рабочих. Консерваторы почти не оставляли Столыпину пространства для маневров. Отчасти он пал жертвой собственных успехов: он удушил революцию 1905–1906 годов, а в следующем году изгнал из Думы многих либералов и социалистов, тем самым создав возможность наладить рабочие взаимоотношения между квазипарламентом и правительством, назначенным царем, но одновременно исчезло ощущение необходимости в безотлагательных мерах. При этом на более глубоком уровне он просчитался. Согласно новому столыпинскому избирательному закону, принятому в июне 1907 года, те социальные группы, которым была наиболее выгодна его программа реформ, были либо исключены из Думы, либо своей численностью в ее стенах резко уступали представителям традиционных интересов – земельному дворянству, – в наибольшей степени проигрывавшим от реформ, но усилившимся в результате столыпинского парламентского переворота [449]. Иными словами, те политические слои, которые наиболее сочувствовали самодержавию, наименее сочувствовали реформам, задававшим курс на модернизацию.
Российский протофашизм
То, что русское самодержавие столкнется с серьезными проблемами при создании своей политической базы, было отнюдь не самоочевидно. Число социал-демократов подскочило от каких-то 3250 человек в 1904 году едва ли не до 80 тысяч в 1907 году – но этот прирост, громадный сам по себе, с относительной точки зрения был не таким впечатляющим. Социал-демократическая рабочая партия не пользовалась особой популярностью среди украиноязычного населения, особенно крестьян, так как почти ничего не издавала на украинском языке. На территории, которая впоследствии стала Украиной, проживало не более тысячи членов партии [450]. Большинство членов левацкого Еврейского рабочего Бунда происходило не из юго-западных (Украина), а из северо-западных (Белоруссия, русская Польша) земель империи. Как бы там ни было, даже с учетом Бунда – с которым большинство русских социал-демократов не желало налаживать тесные взаимоотношения – и с учетом независимых польских и латышских социал-демократов, имевших равную численность, а также полуавтономных грузинских социал-демократов общее число социал-демократов в Российской империи, вероятно, не превышало 150 тысяч человек [451]. С другой стороны, такие классические либералы, как конституционные демократы (выступавшие за частную собственность и парламент) – якобы не имевшие в России настоящей социальной базы – выросли в числе примерно до 120 тысяч человек, а в ряды октябристов – еще одной партии конституционалистов, более правой, чем кадеты, – вступило на 25 тысяч человек больше [452]. Социалистам-революционерам, претендовавшим на выражение интересов аграрного пролетариата, в 1905–1907 годах не удалось получить массовую поддержку со стороны крестьянства, хотя эсеры имели привлекательность в глазах городских рабочих и формально достигли численности не менее чем в 50 тысяч человек [453]. Однако все эти партии были карликами рядом с непреклонно монархическим и национал-шовинистским Союзом русского народа, основанным в ноябре 1905 года на митинге под крышей Михайловского манежа под пение церковного хора; уже к 1906 году Союз имел отделения по всей империи – включая небольшие города и села, – а в его рядах состояло, возможно, до 300 тысяч человек [454].
Становление антилиберального Союза русского народа во время революционных событий, когда на повестку дня был поставлен либеральный конституционализм, а вся империя была охвачена социалистическими чаяниями, представляет собой поразительный сюжет. Вплоть до 1905 года элементы, называвшие себя патриотическими, сталкивались с юридическими ограничениями при публичном выражении своих взглядов и были вынуждены довольствоваться крестными ходами, юбилеями военных побед и похоронами и коронациями царей. Более того, в том революционном году большинство консерваторов было захвачено врасплох и не имело намерения выходить на политическую арену, не говоря уже о том, чтобы диктовать на ней свою волю. Однако Союз русского народа повел себя иначе [455]. В рядах этого движения, самого выдающегося из множества организаций правого толка, возникавших в России, придворные, лица свободных профессий и духовенство – включая многих преподавателей старой Тифлисской семинарии, в которой учился молодой Сталин, – соседствовали с мещанами, рабочими и крестьянами. Союз русского народа, опиравшийся как на патриотов, так и на разочарованных и дезориентированных, сумел сплотить низшие и средние слои общества на борьбу «за веру, царя и отечество», не допустив их перехода в лагерь левых [456]. Перед царским режимом, загнанным в тупик оппозицией со стороны правого истеблишмента в Думе и в Государственном совете, как будто бы открылся выход, заключавшийся в мобилизации низов.
Союз русского народа способствовал становлению нового типа политики правого толка – нового не только для России, но и для большей части мира, – политики, ориентированной на массы, общественные пространства и прямые действия, фашизма avant la lettre [457]. Рядовые члены и вожди Союза – такие, как внук бессарабского сельского священника Владимир Пуришкевич, имевший привычку заявлять: «Правее меня – только стенка!» – выступали против либерализма, капитализма и евреев (во всем этом, по их мнению, Россия не нуждалась) [458]. Они подчеркивали уникальность исторического пути России, отвергали Европу как образец, провозглашали необходимость приоритета православных перед евреями и католиками (поляками) и требовали «возрождения» русских традиций. Союз выражал презрение к правительству России за его трусливую поглощенность вопросом собственной безопасности, усматривая в этом признак нехватки воли для расправы с либералами (и социалистами). Кроме того, Союз испытывал отвращение к модернизации государства, считая ее равносильной социалистической революции. По мнению членов Союза, страной должен был править один лишь самодержец, а не бюрократия и тем более не Дума. В рядах Союза состояло много представителей правых экстремистов-черносотенцев, получивших печальную известность благодаря своим погромам, жертвами которых становились евреи, проживавшие в черте оседлости, и участием, наряду с царскими войсками, в подавлении революционных выступлений рабочих и крестьян. Русские правые всех оттенков, поначалу медленно раскачивавшиеся, развернули ошеломляюще мощную кампанию, в огромном количестве распространяя брошюры и газеты, проводя митинги во имя защиты самодержавия, православия и народности от евреев и таких вредных европейских влияний, как конституционализм западного типа.
Социалисты империи не уклонялись от противостояния этой правой волне. Социалисты под угрозой левых контрдемонстраций нередко вынуждали Союз русского народа к проведению собраний за закрытыми дверями, а затем и к проверке пригласительных билетов с тем, чтобы уберечься от левых террористов, своими бомбами готовых разнести правых на клочки. У левых имелся собственный серьезный источник силы и сплоченности в лице Карла Маркса и его «песни песней» – «Манифеста Коммунистической партии» (1848). Тем не менее в распоряжении русских правых находилось собственно Священное Писание, а также то, что было по-настоящему взрывоопасным материалом – одна из русских газет правого толка ознакомила мир с так называемыми Протоколами сионских мудрецов. Эти сфабрикованные протоколы заседаний вымышленной еврейской организации изображали евреев участниками глобального заговора – вполне явного, но при этом каким-то образом скрытого от глаз, – ставившего своей целью эксплуатацию христиан и мировое господство [459]. Впервые они были опубликованы на русском языке в девятидневный промежуток с 28 августа по 7 сентября 1903 года в санкт-петербургской газете «Знамя», получавшей финансирование от министра внутренних дел Вячеслава фон Плеве и издававшейся молдаванином-антисемитом Паволакием (Павлом) Крушеваном (г. р. 1860). Он не только руководил составлением текста протоколов в 1902–1903 годах, но и был подстрекателем крупного погрома в Кишиневе в 1903 году, а в 1905 году основал бессарабское отделение Союза русского народа [460]. Антисемитизм, как искренний, так и исповедуемый из циничных побуждений, мог играть роль политического волшебного эликсира, давая возможность возложить на евреев вину за все то, что идет не так. В черте оседлости и западных приграничных регионах империи (Волынь, Бессарабия, Минск) за правых отдавали свои голоса едва ли не все крестьяне, а в центральных сельскохозяйственных губерниях (Тульская, Курская, Орловская), сотрясаемых крупными волнениями на селе, правым принадлежала примерно половина крестьянских голосов [461]. На самом деле на обширных пространствах Российской империи сочувствие к правым политическим силам только дожидалось, когда его разбудят [462].
Подобно тому как самодержавие с самого начала не желало использовать слово «конституция» (или хотя бы «парламент»), так и «Союз» русского народа отказывался называться политической партией и объявлял себя спонтанным движением, органическим народным союзом. Несмотря на все это, петербургская правящая верхушка не желала признавать за этим движением права на постоянное существование. Столыпин считал выгодным тайно финансировать правые организации и их антисемитские издания наряду со множеством газет, основанных его правительством, однако заместитель Столыпина по Министерству внутренних дел с 1906 по 1911 год, Сергей Крыжановский, который занимался выделением средств для Союза русского народа и аналогичных организаций, не видел различия между политическими технологиями и социальной программой ультраправых – изъятием частной собственности у плутократов и ее распределением среди бедных – и левых революционных партий [463]. Правительство, не создававшее этих массовых движений, проявляло по отношению к ним осторожность. Соответственно, даже если призывы ультраправых к социальному уравниванию по большей части выглядели блефом, охранка все равно относилась к организациям правого толка как к очередному революционному движению и проводила соответствующую политику. Некоторые группировки в охранке игнорировали эту политику или противодействовали ей. Но по большей части сотрудники охранки считали вождей ультраправых «некультурными» и «неблагонадежными» людьми и вели за ними пристальный надзор, имея для того серьезные причины. Точно так же, как и левые радикалы, деятели Союза русского народа составили список лиц нынешних и бывших государственных деятелей, которых следовало убить [464]. В число их мишеней входил и Столыпин [465]. Его влиятельный главный советник по внутренним делам, бывший раввин, перешедший в православие, был антисемитом, но премьер-министр в то же время пытался ослабить наложенные на евреев ограничения в отношении места жительства, профессии и образования, исходя как из принципиальных, так и из прагматических соображений – с целью ослабить предполагаемый источник еврейского радикализма и улучшить образ России за рубежом [466]. Столыпину удалось навлечь на себя гнев со стороны несгибаемых правых.



