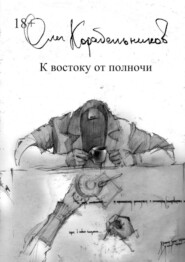скачать книгу бесплатно
– Куда? – ошарашенно спросил Чумаков.
– К тебе. Вот куда!
Чумаков ошалело уставился на нее, потом, опомнившись, путаясь в пуговицах, стащил халат, смял его, сжал под мышкой и сказал:
– Поехали.
– Оденься, – улыбнулась она, побледнев. – Осень на дворе. Я буду ждать тебя на следующей остановке.
Это было началом.
Началом трудной и странной любви. Приходилось скрываться от всех, встречаться урывками, проводить вместе короткие часы.
Радость тела, смятенье души, покаянные слезы, тоска и счастье.
Тогда и проснулась дремавшая совесть Чумакова, тогда и заговорила в полный голос:
«Это ты, – сказала она, – ты виноват. Ты погубил жену и сына, ты не смог простить, ты! Это ты струсил в юности и сейчас, как мелкий воришка, воруешь чужую жену. Не можешь решиться на честный поступок, объясниться до конца, нарушить свой дурацкий покой скандалом. Трус! Ничтожество! Боишься!»
«Да, я боюсь, – сознался Чумаков. – Да, я виноват, что тогда накричал на жену. Виноват, что не сказал о своей любви Гале раньше. Да, я не могу решиться на открытый бой. Но как ты не понимаешь, что чем глубже врастаешь в человека, тем больнее его терять! Я больше не выдержу».
«Еще бы, – ехидно сказала совесть голосом Костяновского, – намного удобнее любить чужую жену. Ни тебе семейных хлопот, ни забот».
«Я брошу, – сказал Чумаков, – вот увидишь, я брошу. Я ей все объясню, она поймет, она простит меня».
«Зато я тебя никогда не прощу! – закричала совесть. – Я замучаю тебя! Заморю!»
Он пытался забыть Галю, избегал встреч, не поднимал телефонную трубку, окружал себя нуждающимися в помощи людьми, но это удавалось лишь на короткое время – месяц, два, не больше.
Она говорила ему, что готова развестись хоть завтра, готова бросить все ради него, потому что он – ее единственная, самая большая и сильная любовь, только с ним она счастлива, а Чумаков краснел, молча целовал ее и ничего не отвечал.
Последний год они встречались все реже и реже, по всей видимости, она потеряла надежду, что он позовет ее, да и он сам все глубже уходил в свою странную жизнь, наполненную чужими людьми и чужим горем.
А однажды, читая брачные объявления в газетах, натолкнулся на одно, кольнувшее его болью и скрытым криком о помощи. И решил так: «Будь что будет, я уеду в этот далекий город, брошу все, забуду Галю, начну новую жизнь».
Он уезжал в тот город. Но об этом – потом…
9. День
– Ты орал, как осел, – сказал Оленев, чиркая спичкой, – ты голосил на весь корпус, будто тебе выдирали зуб. Теперь так принято разговаривать с профессорами?
– А, – поморщился Чумаков, – нервишки. Пошли обедать. Сил нет, до чего есть хочется.
Они пошли по бесконечным подземным переходам, из корпуса в корпус, эхо шагов отдавалось в кафельных стенах.
– Ты случайно не слышал, – спросил Чумаков, – не ждет ли он перемен в свою пользу?
– Есть такой слушок, – сказал Оленев. – Готовится скакнуть на ступеньку выше. Не то заслуженный деятель, не то членкор, что-то в этом роде. А ты-то с какого бока?
– Не с бока, а поперек горла. Оказывается, я опасный противник и меня легче сделать другом, чем уничтожить.
– Ты старый ворчун, – сказал Оленев. – И что ты с ним не поделил?
– Он бездарный хирург! Ты посмотри только, как он оперирует! Что ни операция, то осложнение, а вину всегда свалит на других. Сколько апломба, маститости! Величина! Твердыня науки, утешитель скорбящих, исцелитель больных! Тьфу!
– Ну, это все филиппики. Короче, в чем там дело?
И Чумаков поведал о разговоре с Костяновским, не сказав, впрочем, ни слова о его жене.
Сложилось так, что с Оленевым, единственным человеком в клинике, он мог говорить откровенно, хотя Юра был младше его лет на десять, и, строго говоря, их нельзя было назвать близкими друзьями. Они практически не встречались в нерабочее время, у каждого была своя жизнь. Свои заботы и взгляды, порой противоречивые. Это не мешало им, однако, понимать друг друга с полуслова и легко находить общий язык. Иногда Чумаков думал, что его судьба могла бы сложиться иначе, если бы он не встретил Оленева.
Странная это была пара. Невысокого роста, легкий и подвижный Чумаков – красивое мужественное лицо, седеющие густые волосы, мускулистые руки с гибкими пальцами; быстро взрывается, легко отходит, может искренне и гневно распекать кого-нибудь, а через пять минут уже напевает себе под нос, благодушно щурится и с удовольствием выслушивает очередной анекдот. Оленев же высок ростом, сутуловатый, очкастый, большие залысины прикрывает колпаком и кажется медлительным, чуть ли не полусонным. Работает он неторопливо, лишних движений не делает, не суетится, не подгоняет криками сестер, и его кажущаяся заторможенность чаще всего оборачивается продуманностью каждого жеста. Оленев ироничен, немногословен, в свободные минуты и часы предпочитает уткнуться в книгу, в отношениях с коллегами покладист, и вывести его из состояния душевного равновесия практически невозможно. В первые годы своей работы в клинике он попал к Чумакову в немилость. «Ну, ты, молодой, – говорил Чумаков, нарочито забывая имя, – будет у тебя больной спать или нет?» Оленев обнадеживающе улыбался, согласно кивал головой и продолжал делать то, что сам считал нужным. Уже тогда он не нуждался в советчиках, и вскоре оказалось так, что Чумаков незаметно переменил к нему свое отношение, с интересом прислушивался к его словам, а затем стал спрашивать совета по той или иной проблеме, выходящей за пределы медицины. В своей области советчиков он не любил, но с горечью понял, что, отдав годы жизни хирургии, слишком уж сузил кругозор, ограничив его литературой по специальности, телевизором и случайными книгами. Оленев же выходил за рамки среднего врача не особым талантом и напористостью, а широтой взглядов и неожиданностью интересов. И то, что сам Чумаков привык считать в последние годы «чумаковской теорией», большей своей частью было обязано рождением именно Оленеву, точнее – длительным спорам между ними, в которых и родилось чумаковское отношение к жизни, особенно – к семейной.
Сам Юра Оленев был женат, растил дочь, был устойчив к жизненным передрягам и, по всей видимости, менять свой образ жизни не собирался. Поклонник статистики, он любил приводить цифры и проценты, придающие аргументу твердость и убедительность. «Что-то не похоже, – говорил он, – чтобы уменьшалась нужда во врачах. Наука развивается, лекарства изобретаются, больницы строятся, профилактика на высоте, по телевизору каждое воскресенье умные люди дают советы, как уберечься от болезней, а как у нас в отделении реанимации была смертность около двадцати процентов десять лет назад, так и сейчас тот же процент, та же статистика. Тебе не печально, Вася, смотреть на пятиклассницу, на ее бантики и гольфики и думать о том, что через десять лет она выйдет замуж, родит сына или дочь, и вот ее ребенок заболеет, поступит к нам в больницу, и с неизбежностью включится в этот процент?» – «Да, – отвечал Чумаков, – мне печально смотреть на тебя, дурака, и сознавать, что ты с неизбежностью умрешь от рака легких. Кто же так много курит?»
Они сидели в столовой, хлебали неизменный гороховый суп, и Чумаков, словно забыв о недавней ссоре с профессором, весело рассказывал об очередных проделках говорящего скворца, а Оленев молчал, и если улыбался, то, наверное, только мысленно.
– Утечка информации, – вдруг сказал он. – У тебя произошла утечка информации. Кого подозреваешь?
– Ты что, рехнулся? – Чумаков чуть не подавился. – О чем это ты?
– Откуда этот ябедник так много знает? Ты ему сам рассказывал?
– Ей-богу, спятил. Я с ним всего два раза виделся, в больнице и дома.
– И долго он у тебя пробыл?
– Минут двадцать, пока Петя не выкинул. Да разве дело в этом? Кое-какие факты он знает точно, а их истолкование уже из области фантастики.
– А это и есть самое опасное.
– Да брось ты! Кто поверит такой ерунде!
– Умный ты, Вася, а все дурак. Профессор рассчитал правильно. Тебе придется доказывать ложность каждого утверждения. Скорее всего, ты это сделаешь, но с каким трудом? Ну, поседеешь пуще прежнего, ну, заработаешь легкий инфаркт, ну, помрешь от инсульта, пустяки… А информация все-таки истекла, хоть тоненькой струйкой, но… Микрофонов в квартире не находил? Внутренняя оппозиция в доме имеется?
– Ты что, издеваешься? Слава богу, без тещи живу.
– Ну да, Чумаков и чумаковщина. «Прийдите ко мне вси труждающиеся и обремененные и аз упокою вы…» Видно, христианство у тебя в крови, Вася, устроил дома Ноев ковчег, как будто потоп на дворе, а для чего?
– Они все нуждаются во мне, – с достоинством сказал Чумаков, – а я в них. Уж не предлагаешь ли ты мне жениться и «жить, как люди»?
– Все, что я говорил тебе, ты все равно понял по-своему. Свобода может быть только внутри человека, а ты ищешь ее снаружи. По твоей теории получается так, что я закрепощен. Ну да, у меня жена, штамп в паспорте, дочь в школе двойки получает, теща из соседнего дома в бинокль смотрит. Женские капризы, детские болезни, бабьи сплетни – весь набор семейного счастья.
– Ну и как? – ехидно спросил Чумаков, выбирая яблоки из компота. – Живешь полной жизнью? Счастлив?
– А ты? – в свою очередь спросил Оленев. – Если ты полагаешь, что женщина в доме – к несчастью, то для чего привел Ольгу?
– Она обратилась за помощью, я помог.
– Это ты называешь помощью? Ты считаешь, что лучше жить среди чужих людей в тесной квартире, чем с родной теткой? Да и жить ей осталось…
– Ты пойми правильно: вот женщина, она знает, что скоро должна умереть, а ей не дают покоя, не могут и не хотят дать хоть немного радости напоследок, надежды, чувства полноты жизни…
– А ты можешь? – перебил Оленев. – А те, кто живут с тобой, разделяют твои взгляды?
– Мне кажется, что мог, – скис Чумаков, – а теперь и сам не знаю. Она написала письмо, не решилась сказать вслух. Она уезжает сегодня, а может, уже уехала.
– Куда?
– Не знаю. Благодарит за все, просит не винить, что оставляет меня одного. Смешно и грустно… Я никогда не бываю один.
– Что-то ты запутался, Вася, нелогично рассуждаешь.
Оленев насмешливо смотрел на Чумакова, и тот в который раз ощутил силу и спокойствие этого человека. И ему, как всегда, захотелось довериться Оленеву, попросить совета, поплакаться в мятый белый халат; он понял, что в самом деле давно запутался в жизни и не видит выхода ни в своих теориях, ежедневно разрушаемых, ни в работе, не приносящей радости, ни в самом себе, должно быть, слабом и неумелом. Ему всегда не хватало друга, он полагал, что только мужчина может быть до конца бескорыстным и честным, ибо женщине мешает обостренное чувство собственности. Чумакова уязвляло, что Оленев, более молодой, чем он, и меньше побитый жизнью, все же крепче стоит на ногах, и не так-то просто сбить его с избранного пути. Он понимал, что все равно почти ничему нельзя научиться у другого, у каждого свой путь, свои трудности, своя боль, которую не переложишь на чужие плечи.
– Какая уж тут логика, – вздохнул Чумаков. – Я давно перестал понимать, что делается вокруг меня. Выбился из фазы.
– Расскажи подробнее, – почти потребовал Оленев. – Почему все-таки она ушла от тебя?
– Не от меня, а из моего дома, – поморщившись, поправил Чумаков. – Есть оттенок. Наверное, не сумел.
– Говори яснее. Что ты не сумел?
– Струсил я, – сказал Чумаков, мучаясь от унижения. – Она хотела родить ребенка перед смертью. А я решил, что это ни к чему.
– Ясно. Один бы ты его не вырастил. Пришлось бы обращаться к женской помощи, а для тебя это горше смерти.
– Где-то так. Не совсем, конечно, точно. Я бы сам вырастил. Сирота есть сирота, что хорошего…
– Эх, Вася, Вася, – покачал головой Оленев. – Испугался. Пеленки, соски, молочная кухня, ангины, ушибы, стирка, шлепки. Суета, да? А вот ты состаришься и умрешь, а что после себя оставишь? Свою никому не нужную теорию? Тебе самому от нее тошно, а другим каково? Может, и в самом деле все твои слова лишь прикрытие трусости и эгоизма?
– Что же, я, по-твоему, живу только для себя? Или я паразитирую на ком-нибудь? Я ни рубля не накопил с тех пор, как живу без семьи. Все отдаю другим: время, силы, покой. Ты думаешь, мне не лучше было бы жить одному? А что, никаких забот, белье в прачечную, еда в столовой, пыль протер, сел у телевизора, почитал газету, погулял в лесу. Ни от кого не завишу, жильем обеспечен, зарабатываю неплохо, лишних вещей не надо, чем не жизнь? В отпуск съездил на юг, развлекся, покутил, вольный человек. Могу завести любовницу, могу собаку купить, могу напиться, когда захочу, ни перед кем ответ держать не надо. Что же, по-твоему, я так и живу? Я был эгоистом, когда был женат. Посуди сам: семья живет относительно замкнуто, есть и слово такое – семейный бюджет, все в общую копилку, чужому так просто не дадут, разве что в долг. Как женятся, сразу же начинают копить, вкалывают до чертиков, экономят на спичках, накопили – мебель купили, машину, одежду и прочее барахло. Сначала, чтобы все было не хуже, чем у других, а потом – чтобы лучше. И вот все копят, растят своих детей, радуются своему благополучию, а что делают соседи по площадке, не знают и знать не хотят.
– Тьфу на тебя! – улыбнулся Оленев. – Эвон, загнул, батенька. Замахнулся на извечные моральные ценности. Разрушитель! Кулаки еще не отбил? Ну да, семья – это явление социальное, а моногамия рождена частной собственностью и эгоизмом. Как же, не хочется делиться своей женой, жалко ведь, а вдруг другой окажется лучше? Раз, и закрепил законом – никуда, миленькая, не денешься. А сейчас как будто, по-твоему, и делить нечего, а все равно жалко. К чему бы это?
– Пошляк и ехидина, – сказал Чумаков. – Семья – это пережиток. И мы должны не стараться закреплять развалины, а строить новые формы объединения людей. И я – человек будущего!
При этих словах Чумаков хлопнул ладонью по столу и, конечно же, опрокинул стакан с недопитым компотом. Желтоватая струйка потекла на пол.
– А как же быть с еще одной известной ценностью, с любовью? – спросил Оленев. – Это уже не социальная штука. Будем делать операции на генах? А то куда денешься? Хочется влюбленным жить вместе, и хоть кол на голове теши, все равно будут жить.
– Ну да, до поры, до времени, пока любовь жива. А потом? Ведь недаром есть и первая любовь, и последняя, и между ними сколько! Семья как раз и убивает ее, человек тянется к новой любви, ан нет, закон не позволяет, мораль, оставленная нам христианством, запрещает. Вот и трагедии: измены, ревность, драки.
– Ну и что же, приспела пора возвращаться к групповой семье?
– Да мы и так возвращаемся, но на более высоком уровне. И здесь движение по спирали.
– Развращаемся, – усмехнулся Оленев. – Эх ты, стареющий певец сексуальной революции. В твои годы пора и о душе задуматься, а ты как юнец безусый. Еще теорию стакана воды вспомни. Да было все это, а семья все равно осталась. А все эти теории радости тела, любви, разлитой поровну, свободы тела и духа и прочие, прочие, разваливаются и рассыпаются. К чему бы это?
– К тому, что мы с тобой засиделись в столовой, – проворчал Чумаков, сгребая тарелки.
Кончился рабочий день, началось дежурство. Он любил эти первые часы, когда в больнице затихал шум голосов и шагов, больные укладывались спать, и он сам тоже мог, наконец, расслабиться, свободно покурить, а то и подремать в кресле.
Тоненькой струйкой текла вода из незакрытого крана, она ударялась в раковину и наполняла ординаторскую стеклянным звоном. Чумаков сидел в кресле, подходить к умывальнику не хотелось, и он, воспитывая терпеливость, старался не раздражаться, а представить что-нибудь лесное, родниковое, бьющее из-под влажной земли и текущее по вымытым добела камням.
Закрыв глаза, он представлял себе летний лес, пытался вспомнить звуки и запахи июля, но это не удавалось, в середине зимы лето забылось, и не верилось в жару и гул шмелей над венчиками цветов. Звук льющейся воды все равно оставался городским, водопроводным, и мнились ржавый железный кран, выходящий из бетонной стены дома, грязная лужа на асфальте, пустые бутылки, стоящие в ряд, и сгорбленный старик, неторопливо моющий их одну за другой.
10. Дедушка
Каждый раз, возвращаясь домой, Чумаков видел этого старика, то моющего бутылки у крана, то сидящего на ящиках у посудного ларька в терпеливой очереди. Каждый раз он узнавал его лицо, обрамленное длинной седой бородой, старый солдатский бушлат, стоптанные сапоги, вспоминал предыдущие встречи и ощущал стыд. Чумакову было стыдно, что он сам молодой и здоровый, обеспеченный жильем, одеждой, его положение врача престижно, и он может без страха заглядывать в будущее, зная, что впереди его ждет спокойная старость, пусть одинокая, но не такая вот, сиротская и безнадежная. Он успокаивал себя придуманными историями, мол, есть у старика и жилье, и заботливые дети, и румяные внуки, но он просто опустился, спился, ему вечно не хватает на вечернюю бутылку портвейна, и что ни говори, он сам виноват во всем. Но старик не походил на горького пьяницу; специально удлиняя дорогу, Чумаков проходил рядом с ним, заглядывал мельком в лицо и с раскаянием убеждался, что предположения его ложны и придуманы лишь для того, чтобы успокоить вечно ноющую, неизлечимую больную совесть.
«Перестань, – говорил он своей совести, поднимаясь на третий этаж, – перестань изводить меня своими фантазиями. Я не могу спасти всех, у меня не хватит сил, чтобы утешить плачущих и оделить обиженных. Их слишком много, несчастных и одиноких, больных и скорбящих. Разве я не посвятил свою жизнь избавлению людей от болезней, разве этого мало?» – «Мало, – ныла совесть плаксивым голосом, – в больнице твоя работа, ты за нее деньги получаешь, все равно ты больше ничего не умеешь, только скальпелем размахивать, да клизмы назначать. Ты негодяй, Чумаков, ты проходишь мимо человеческого горя, ты, сытый и чистый, закрываешь свои подлые глаза, фарисействуешь, лицемеришь передо мной, а я тебя насквозь вижу, я тебя с детства знаю, тебе нет дела до чужого горя».
Чумаков скрипел зубами, вяло оправдывался, но покой не приходил и совесть не умолкала. «Я же помогаю людям, – говорил ей Чумаков. – У меня постоянно кто-нибудь живет, я кормлю, пою и одеваю чужих мне людей. Я трачу на них все деньги, мне самому ничего не надо. Ну почему ты у меня такая сварливая? У всех людей совесть как совесть, а ты пилишь и пилишь целыми днями. Слушай, когда-нибудь я потеряю терпение и вырежу тебя напрочь. Надоела!» – «Рука не поднимается, костоправ чертов! – кричала совесть. – Гордыня обуяла! Делаешь добра на грамм, а хвалишься на пуд! Видеть не могу твои бесстыжие глаза!» – «Ох, – жаловался Чумаков. – Доведешь ты меня до инфаркта». – «И доведу, – безжалостно грозила совесть, – я тебя в гроб сведу. Я тебе за все отомщу. Загубил меня, в грязи вывалял, отравил мои юные светлые годы». – «Чтоб тебя! – стонал Чумаков, ворочаясь в постели. – Специально не женюсь, чтобы избежать женских упреков и криков, а ты заменяешь мне и жену, и тещу, чертова баба!» – «Подойди к дедушке, – требовала совесть, – узнай, чем ему можно помочь. Он такой старенький, у него такие добрые глаза, он, наверное, ночует на стройках, мерзнет и голодает, дети из дома выгнали, внуки камнями забросали, он, бедненький, бутылки собирает, чтобы прокормиться, а у тебя морда лоснится от сытости и спишь в мягкой постели!» – «Ну ладно, ладно, – сдавался Чумаков, – подойду, спрошу, только оставь меня в покое».
Он давно бы подошел к старику, но мешала стеснительность, было неудобно вторгаться в чужую жизнь без приглашения, он боялся обидеть незнакомого человека и все придумывал способы, приемлемые для знакомства.
Однажды Чумаков специально купил пару бутылок пива, сел неподалеку от старика, торопливо выпил одну и аккуратно поставил на видное место. Старик словно не замечал приманки, он сидел на ящике, щурился на солнце, шевелил губами, будто рассказывал что-то самому себе или молился. Чумаков покашлял и спросил:
– Дедушка, у вас закурить не найдется?
Старик отрицательно покачал головой и не сказал ни слова.
На большее фантазии у Чумакова не хватило, он не спеша допил вторую бутылку и позвенел ею для пущей наглядности. Старик даже не взглянул в его сторону. «Видишь, – сказал Чумаков своей совести, – я пытался, он сам не желает». – «Кто же так делает? – заканючила совесть. – Ты уязвляешь его гордость, хочешь купить за паршивые бутылки. Он человек, у него есть свое достоинство». – «И у меня есть, – возразил Чумаков, – как же я подойду без повода и заговорю о погоде?» – «У тебя вообще ничего нет! Ни добра, ни жалости, ни такта!» – «По крайней мере, меня нельзя назвать бессовестным, – ехидно заметил Чумаков, – ты-то у меня есть…»
На другой день он увидел старика, бродившего по газону и рвущего траву. Было раннее лето, зелень свежа, и пыль еще не осела на травах. Старик снял сапоги, босиком ходил по резным розеткам одуванчиков, срывал желтые цветки, подолгу всматривался в них, потом отбрасывал и снова искал что-то известное ему одному.
Чумаков остановился, закурил и, растягивая время, тоже сорвал одуванчик на длинном трубчатом стебельке. Белый млечный сок испачкал руку. Чумаков повертел цветок, понюхал, запах был тонкий и неуловимый.
– Красивый цветок, – сказал Чумаков. – Вроде бы и сорняк, а красивый.
На этом его познания в ботанике кончались.
– Это не цветок, – сказал старик хрипловатым голосом, – это прообраз Великого Яйца.
Чумаков чуть не прыснул в ладонь, как смешливая школьница, но вовремя проглотил смешок и спросил:
– Что за Яйцо, дедушка?
Старик распрямился, хмуро взглянул на Чумакова из-под косматых бровей.
– Великое Яйцо, из которого весь мир самосотворился. А это его прообраз, чтобы мы помнили и благоговели. Яйцо растеклось по времени, сперва желток, потом белок, медленный порыв ветра разносит животворное семя по Вселенной.
«Ну вот, – вздохнул про себя Чумаков, – старик еще и того».
– Да, – сказал он вслух, – действительно…
О чем еще говорить, он не знал, старик сам продолжил: