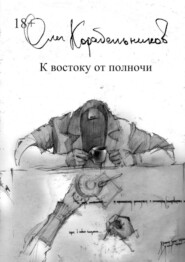скачать книгу бесплатно
– А почему вы не обращались?
– Так кто же знал?
– Вот видите, и мы не знали, а когда узнали, стало поздно. Давайте не ссориться. Ваша жена обречена, это большое горе, а вы начинаете искать виновных. Поверьте, от этого не станет легче ни вам, ни ей.
Муж опустился на скамейку, тополиный пух щекотал ему ресницы, и было непонятно, то ли он вытирает слезы, то ли просто смахивает пух с лица.
– И что же мне делать? – спросил он, не глядя на Чумакова.
– Быть мужчиной, – сказал Чумаков. – Держаться до конца. Она не должна знать.
– Она хотела ребенка, – глухо сказал муж, – я не разрешал. Думал, успеем. У нее больше никого нет. И не будет.
– А вы?
– Я? – поднял голову муж. – Вы правы, я буду мужчиной. Я найду правду. Я отомщу.
– Да кому же? Судьбе? Болезни?
– Вы мне зубы не заговаривайте, – жестко сказал муж. – Я не фаталист какой-нибудь, я знаю – всегда найдется виноватый, если поискать. Нечего на бога сваливать свои грехи. Врачи и виноваты. Может, вы, а может, еще кто-нибудь… Я буду писать куда надо. До Москвы дойду.
– Пешком? – горько усмехнулся Чумаков.
– Ах, вы еще издеваетесь! Хорошо, я так и напишу. До свидания, доктор.
– До свидания, настоящий мужчина, – сказал Чумаков. – Не дай вам бог таких родственников, как вы сами.
Они повернулись друг к другу спиной, и Чумаков окончательно решил, что это лишь невесомый тополиный пух скользил по лицу собеседника, заставляя протирать сухие глаза.
Потом были жалобы, длинные, написанные не без таланта, в которых перечислялись по пунктам прегрешения Чумакова и вообще – «людей, недостойных носить белый халат». Беседа с Чумаковым была приведена со стенографической точностью, телефонные разговоры тоже прилагались. Муж Ольги не забыл отметить мятый халат Чумакова – «как у грузчика овощного магазина», а также мешки под глазами – «видно, что с жуткого похмелья», а Чумаков не спал тогда всю ночь, были трудные операции, и халат не успел заменить – замешкалась сестра-хозяйка. Но жалоба есть жалоба, к ней надо прислушиваться, Чумакова вызывали куда следует, вздыхали, разводили руками, никто не считал его виновным, но надо было как-то успокоить родственника… Вот его и успокаивали, тратили время и бумагу, отвлекали от дела занятых людей, будоражили Чумакова, а между тем жалобы поднимались все выше и выше, и число обвиняемых в равнодушии и халатности соответственно все увеличивалось и увеличивалось. Все это было досадно, вздорно, но худшее заключалось в том, что муж-правдолюбец все-таки открыл Ольге суть болезни.
Скорее всего, она сама догадалась об исходе, бродила в одиночестве по коридору отделения, подолгу смотрела в окно, и вид у нее был такой, словно она прислушивалась к своему телу, а может, к музыке, не слышной посторонним.
– Ничего, – говорил Чумаков, проходя мимо, – еще помучаете учеников своими гаммами.
Она смотрела на него печальными глазами, невесело улыбалась и отвечала что-нибудь вроде:
– Да, конечно, Василий Никитич.
На «ты» она стала называть его позднее, осенью. Ольга позвонила ему на работу и сказала, что хотела бы поговорить лично, а не по телефону. Голос был встревоженным, Чумаков согласился, она приехала в конце рабочего дня, и Чумаков вышел в вестибюль без халата, в своей легкой мальчишеской курточке с обвисшими карманами. Она пришла с чемоданом. Не спрашивая ни о чем, он подхватил его, вывел Ольгу в больничный парк и усадил на ту самую скамью, где летом беседовал с ее мужем. Не специально, так уж вышло. «Ну, что?» – спросил он глазами.
Она пыталась говорить спокойно, даже с иронией, но улыбка была немного вымученной, голос подрагивал. Чумаков успокаивающим жестом дотронулся до ее ладони, тогда она не выдержала и расплакалась, впрочем, без звука. Дело было в том, что она ушла из дома и решила попрощаться с доктором – чуть ли не единственным, кто отнесся к ней по-человечески. Да, она подала на развод, чтобы избавить мужа от тягостных обязанностей, с ним жить она больше не может, он изводит ее мелочной опекой, постоянными вопросами о самочувствии, и ей даже кажется, что муж обижен на нее именно за то, что она должна умереть и тем самым причиняет и еще причинит ему массу хлопот, которых он, конечно же, не заслужил.
– И он вас отпустил?
– Он уехал, – сказала Ольга. – В Москву, в министерство, искать правду… Да какая еще правда ему нужна? Он просто сбежал. Видеть его не хочу.
– Ну и куда же вы собрались? – спросил Чумаков, кивнув на чемодан.
– К тетке, – сказала Ольга, – в другой город. Все-таки родная кровь.
Чумаков хотел сказать, что хоть тетка и родная, но у нее наверняка и своих забот хватает, и вряд ли это можно считать выходом из положения. Ольга словно догадалась о его мыслях и спросила:
– Может, есть больница для таких, как я?
Чумаков отрицательно покачал головой и неожиданно для себя предложил:
– Можете пожить у меня. Места хватит.
– У вас? – удивилась Ольга. – Что же я буду делать?
– Жить, – просто ответил Чумаков. – Там вас не обидят.
– Вы что же, предлагаете мне выйти замуж? Сейчас?
Для Чумакова это была больная тема, он мучительно покраснел от наивного вопроса, но ответил честно.
– Нет, я просто буду заботиться о вас и ни в чем не упрекну. Со мной живут два брата и дедушка. Они хорошие люди.
– Это о вас некому заботиться, – мягко сказала Ольга. – Уже осень, а вы ходите в этой куртке, как мальчишка. И она давно не стирана.
– Мне так нравится, – буркнул уязвленный Чумаков.
– Спасибо, Василий Никитич, – сказала Ольга. – Быть может, жалость и унизительна, но вот вы пожалели, и мне стало легче. Конечно, я не пойду к вам, но верю, что вы предложили искренне. Мы чужие люди…
В то время Ольга не имела никакого понятия о чумаковских «теориях», иначе она бы поостереглась высказывать такие мысли. Они действовали на Чумакова, как красная рубашка на гусака.
– Ага! – сказал он, встрепенувшись, словно заядлый драчун, при виде недруга. – Ага! Чужие люди! Значит, по-вашему, кровное родство – уже гарантия близости людей? Черта с два! Это при родовом строе кровный родственник был синонимом ближайшего друга, а сейчас-то? Глупейший предрассудок, из-за которого так много страданий и несправедливостей!
Далее Чумаков разошелся. Слушатель ему попался безропотный и, главное, обладающий редчайшим даром: Ольга умела слушать то, что говорили другие, а не, как обычно, – только самое себя.
– Но в наше время! – горячился Чумаков. – Нам даже детям нечего оставить в наследство. Мебель, прессованная из опилок, стоит чертовски дорого, устаревает, разрушается, выходит из моды. Одежда изнашивается и надоедает. Машина – этот дурацкий символ престижа – ломается, а то и загоняет в гроб своего хозяина. А бытовые заботы сведены до минимума – протереть пыль, сдать белье в прачечную, сходить в магазин, за полчаса приготовить обед. И одному человеку делать нечего. А сколько споров из-за так называемого семейного быта? Как же, животрепещущая проблема – кто в семье должен выносить мусор!
– Но как жить? – спросила Ольга. – Разве есть какой-нибудь выход? Худшим наказанием всегда считалось одиночное заключение. Мы так устроены, что не можем жить одни.
– Несомненно! – сказал Чумаков. – Только новая семья должна быть построена не на насилии, а на добровольной взаимопомощи близких по духу людей.
– Ну что вы говорите, – вздохнула Ольга, – какое еще насилие? Люди женятся по любви, добровольно, а если есть любовь, то есть и духовная близость.
– Любовь смертна, – ответил Чумаков, – а закон, связавший людей, живуч. Кровных родственников вообще не выбирают, кто бы они ни были, а законы морали принуждают нас считать их самыми близкими людьми. На чужого человека можно махнуть рукой, а от близких приходится принимать унижения, терпеть их своеволие и никуда не денешься – правила морали осуждают так называемую измену…
Чумаков говорил бы еще долго, если бы наметанным глазом врача не увидел – у Ольги начался приступ боли. Она сидела, вежливо слушала, но уже не слышала, взгляд остановился, зрачки расширились. «Я быстро», – сказал Чумаков и чуть ли не бегом побежал в отделение.
В этот же вечер он привез ее к себе домой. Старожил Сеня возлежал на диване, задрав ноги, по которым трудно было понять, то ли он босиком, то ли в черных носках; ничейный дедушка возился на кухне; Пети не было дома, а говорящий скворец на плохом английском напевал «мани, мани, моней» и выделывал антраша на жердочке. Сеня, видимо, решив про себя, что эта гостья сродни незапамятной Зине, нагло воззрился на нее и независимо закачал ногой в такт песне.
– Встань, дитя природы, – сказал Чумаков. – Лежать в присутствии женщины неприлично.
Сеня вскочил и, дурашливо расшаркиваясь, сделал реверанс.
– Это Сенечка, – сказал Чумаков, – мой слабоумный брат.
Сеня обиженно фыркнул и попросил рубль. Чумаков показал кукиш, а Ольга растерянно зашарила в сумочке. Чумаков остановил ее жестом руки, выгнал Сеню в ванную и сказал:
– Жить будете в одной комнате с дедушкой. Он человек мирный.
– Я тоже, – сказала Ольга.
Первым делом она сняла с вешалки куртку Чумакова и вознамерилась выстирать ее.
– У нас так не принято, – сказал Чумаков. – Я сам постираю.
– Я женщина… – начала Ольга.
– Не сомневаюсь, – перебил Чумаков, – но я мужчина и все делаю сам.
– Я так не могу. Я должна что-то делать, если живу у вас в доме.
– Можете ухаживать за свинками, если не брезгуете.
– Нет, я люблю животных, правда, больше всего – собак.
– Хорошо, – сказал Чумаков, – я подарю вам щенка.
Он сдержал свое обещание. Рыжий лохматый щенок был вызволен им из больничного вивария. Щенок был сиротой, отца он, как и все нормальные дворняжки, не знал, а мать умерла после неудачной операции. Щенка назвали Василием в честь Чумакова, потом он был торжественно усыновлен и получил отчество. Василий Васильевич был жизнерадостным здоровым щенком, делал лужи на полу, грыз обувь, лаял на скворца, пугал морских свинок и был любим всеми. Но особенно нежно Ольгой.
О болезни ей никто не напоминал, если становилось хуже, то Чумаков сам видел это, молча давал лекарство, кипятил шприц и заводил разговор о всякой всячине. Она спала на тахте в комнате у дедушки, допоздна они о чем-то спорили, иногда и ночью оттуда слышались приглушенные голоса. Чумаков улыбался, он знал, что дедушка не упускает случая обратить нового человека в свою веру. Остальные оказались неблагодарными учениками, Петя был скептиком, Сеня вообще не нуждался в поучениях, а у Чумакова имелись свои твердые убеждения, и менять их он пока не собирался. Ольга же внимательно прислушивалась к речам старика, она, как и все больные люди, искала спасения в чем угодно, будь то отвары трав, заговоры или утешительные беседы дедушки о вечности всего живого, на которые он был щедр.
Чумаковские теории были ей ни к чему, и хорошо, что он сам понял это, ибо нелепо и жестоко убеждать женщину бросить мужа и жить свободно, когда, во-первых, она уже бросила и, во-вторых, жить ей осталось не так уж и много. Он больше не возвращался к этой теме, только однажды Ольга напомнила ему тот, первый разговор в больничном парке. Она спросила:
– Неужели вы на самом деле так думаете?
– Да, – гордо ответил Чумаков.
– Господи, – вздохнула она, – наверное, вас никто не любил по-настоящему или хуже – вы никого не любили.
– Я любил и был любим, – сказал Чумаков, – но это лишь иллюзия счастья, быстро проходящая и оставляющая после себя если не ненависть, то пустоту.
– Вы еще молодой, – пожалела она, – и красивый. Женитесь, растите детей и забудьте все прошлые обиды. И к тому же самые близкие родственники – это отец и мать. Неужели они причинили вам столько горя?
– Отец – это отец, – сказал Чумаков, – мать – это мать. У меня были чудесные родители, и поверьте, теория основана не на моей личной жизни, она намного шире.
– Господи, – повторила она, глядя на него с нежной жалостью, – хотите, я полюблю вас, если успею…
Чумакову стало не по себе, жалея сам, он не любил, чтобы жалели его, тем более, что несчастным себя не считал. Последнее слово в фразе Ольги больно кольнуло его нечаянным упреком. Он врач и ничего не может сделать, ничего. Ни вылечить, ни одарить последней любовью. Острая жалость обожгла его, он привлек к себе Ольгу и бережно, как больного ребенка, обнял ее. Она уткнулась в грудь, и то, что случилось потом, то и случилось.
Как-то ближе к зиме пришел муж Ольги. Официального развода между ними не было, он пришел с видом хозяина и, глядя поверх Чумакова, коротко приказал Ольге:
– Собирайся!
– Нет, – сказала она.
Потом произошел неприятный и затяжной скандал с криком, слезами и угрозами, пока не вернулся с работы Петя. Он быстро оценил обстановку, сгреб мужа в охапку и без усилий выставил его за дверь. Сила у Пети была незаурядная.
– Он будет жаловаться, – сказала Ольга сквозь слезы.
– Не может быть, – усмехнулся Чумаков, – это на него не похоже.
А говорящий скворец спешно разучивал только что отзвучавшие фразы:
– Вы у меня за все ответите! – кричал он. – Я найду на вас управу!
– Найдешь, милый, найдешь, – заверил его Чумаков и закрыл клетку платком.
7. Полдень
Он закрыл рану стерильной салфеткой, одобрительно похлопал по животу еще спящего больного, подмигнул операционной сестре и, сказав традиционное «спасибо всем», вышел из операционной. Торопливо вымыл перчатки, снял их и, сдвинув на лоб маску, закурил. В длительных операциях его мучило одно – невозможность закурить, и подчас, когда он чувствовал нестерпимое желание вдохнуть табачный дым, то устраивал перерыв, брал стерильным зажимом сигарету и жадно затягивался. После этого всегда работалось спокойнее.
Вышел Оленев, тоже закурил, хотя ему было легче – он мог отлучаться во время операций, стерильный халат не обременял его, а надежная техника вполне заменяла анестезиолога на короткие минуты.
– Ну, как? – спросил Чумаков, хотя и знал сам, что все с больным нормально.
Оленев словно понял необязательность ответа и просто улыбнулся.
– Пойдешь на обед – зайди за мной, – попросил Чумаков. – Ты, случаем, не дежуришь сегодня? – и, уловив кивок, добавил: – Вот и хорошо. Будет с кем поболтать.
– Да, Вася, – сказал Оленев, когда они спускались по лестнице, – профессор просил, чтобы ты зашел к нему после операции.
– Что-нибудь случилось? – спросил Чумаков, перебирая в памяти недавние проступки и просчеты.
– Пустяки. Он хочет распить с тобой стаканчик чая.
– М-да, – хмыкнул Чумаков, – что же он утром не напомнил? У меня бы и конфетка нашлась.
– Если будет драться – позови, – предложил Оленев. – Буду прикладывать холодную ложку к синякам.
– Ладно. Студи… То-то он снился мне сегодня.
– Это к весне, – уверенно сказал Оленев. – Непременно наступит весна через два месяца. Хороший сон.
К профессору Чумаков не спешил. Все эти вызовы, переданные через других, не обещали ничего хорошего – такая уж была манера у профессора. Если надо было решить простые вопросы, он сам находил нужного человека, если надо было устроить разгон – вызывал виновника к себе в кабинет. Не выносить сор из избы – таков был его принцип. Избой был профессорский кабинет – обшитая полированными панелями просторная комната с непременным ковром на полу, куда и вызывались хирурги.
Поэтому Чумаков, не торопясь, удобно устроившись за столом, прихлебывал чай и заполнял истории болезней – дело прежде всего, и причина веская, не бездельничает же он, а работает. Ручейки разговоров обтекали его, коллеги беседовали между делом о том и об этом, каждый спешил высказаться на затронутую тему, не дослушав до конца собеседника, у каждого находились аналогичные истории и сходные случаи, короче – шла обычная беседа, где любому интересно лишь то, что говорит он, а монологи собеседника используются для передышки и придумывания очередной реплики. Чумаков редко вступал в эти беседы, это поначалу он искренне верил, что они служат для общения и обмена мыслями. Раньше он смело вторгался в разговор, терпеливо выслушивал чужие монологи, страстно отстаивал свою точку зрения, ожидая, что с ним начнут спорить, но разговор постепенно умирал, и Чумаков начинал понимать, что говорит он один, а остальным неинтересно, скучно и даже неловко вникать в чумаковские проблемы. Он злился и был недалек от того, чтобы считать своих коллег ограниченными людьми, интересующимися только спортом, тряпками, материальными благами и прочей ерундой, в душе своей обзывал их бездуховными, и некий оттенок исключительности и превосходства начинал звучать в его голосе, но прошли годы: Чумаков стал мудрее и понял, что разговор разговору рознь.
Есть просто потребность в эмоциональных контактах, и беседа в таком случае сводится к неписанному ритуалу, где каждый получает то, в чем он нуждается – не молчит же, как сыч на суку, а общается, обменивается мнениями, рассказывает о своей жизни то, что считает нужным рассказать, приличия соблюдены, контакт осуществлен, а для глубинного и наболевшего существует узкий круг близких людей, перед которыми не стыдно обнажать страдающую душу.
Что каждый человек страдает по-своему, Чумаков понял давно. Даже сытый и самодовольный мучается от мысли, что может лишиться и сытости, и покоя. А сколько потерь, разочарований и обманутых надежд…
Столкнувшись вплотную с медициной, Чумаков близко соприкоснулся с еще одной гранью страдания – болью, болезнью, со стремлением избавиться от них. Да и сам, шагнув на пятый десяток, не сумел избежать двух-трех хвороб, пока еще не слишком серьезных, но твердо обещающих невеселую старость. Избавить человека от боли, страдания, от одиночества и несправедливости – высокие цели, красивые слова, но Чумаков искренне верил им, впрочем, никогда не говоря об этом вслух. И если бы его спросили, нравится ли ему работа и находит ли он высший смысл в своем врачевании, он бы поморщился, пожал плечами и ответил что-нибудь вроде: «Обычная работенка. Непыльная».