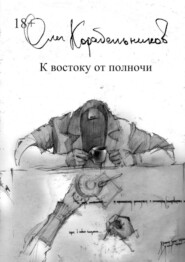скачать книгу бесплатно
Сеня упрямо натягивает на голову одеяло и только мычит в ответ.
– Да, знаешь, Петя выкинул маски в форточку.
– Как! – вскрикивает Сеня, позабыв о сне. – Как выкинул?!
– Да не кричи ты. Сгреб и выкинул. В сугроб.
– И ты ему не врезал по морде? Струсил, да? Я целый день работал, а ты?
– Не обижайся. Может, они еще целые. Снег мягкий.
– Целые? Как же! Твой дурацкий медицинский гипс специально делают хрупким.
– Капризный мальчик, – вздыхает Чумаков и говорит Ольге: – Просыпайся, тебе пора, все равно спать не дадим.
– Я не сплю, – тихо отвечает Ольга. – Уж давно не сплю.
2. Утро
И вот ранним утром такой-то зимы такого-то года проснулась вся семья Чумакова, которая не была семьей. Жена Ольга, которая не была его женой; братья Петя и Сеня, что не были братьями ни друг другу, ни самому Чумакову; дедушка Илья тоже не состоял в родстве ни с кем из них. Ни узы крови, ни слова, красиво написанные тушью и скрепленные фиолетовыми печатями, не связывали их, но Чумаков гордо говорил: «Это моя семья», – и, невзирая ни на что, называл Ольгу женой, Сеню и Петю братанами, а ничейного дедушку – дедулей.
Остальные члены семьи вообще не были людьми в привычном смысле этого слова, но для Чумакова и говорящий скворец, и морские свинки, и щенок Василий Васильевич, и даже тараканы, живущие своей непонятной сумеречной жизнью, оставались членами новой настоящей семьи, построенной на началах свободы и ненасилия. Члены семьи менялись, иногда из людей оставался только сам Чумаков, а из зверей – тараканы, но вскоре находился кто-нибудь одинокий и несчастный, нуждавшийся в спасении и поддержке Чумакова; и он, не задумываясь, приводил его к себе в двухкомнатную квартиру, поил, кормил, обогревал до тех пор, пока что-нибудь не менялось в лучшую или худшую сторону.
Так уже давно жил Чумаков и, несмотря на неудобства, не жалел ни о чем и стойко отражал аргументы многочисленных доброхотов, жалеющих его и советующих зажить обычной человеческой жизнью, когда после работы приходишь в чистую уютную квартиру, где в прихожей тебя целует любящая законная жена и маленький сын, только что приведенный из садика, обнимает за ноги и тянет руку в карман в поисках новой игрушки; и веселая неворчливая теща уже расстилает хрустящую скатерть, где ярким шелком вышиты цветы и птицы; и цветной телевизор на фоне цветных ковров радует сердце удачным хоккейным матчем; и в двух остановках от дома томится в гараже холеный автомобиль, готовый в любой час перевезти тебя в недалекий сад, где топится баня с пихтовыми вениками, вызревает клубника на щедро унавоженных грядках и часы с кукушкой неторопливо отмеряют минуты счастливой полнокровной жизни.
Доброжелатели и советчики, большей частью коллеги Чумакова, хотели бы жить именно так, но Чумаков горячо говорил, что все это – чистые и яркие картинки из придуманной жизни, а на самом деле чуть ли не каждый из них приходит домой после ночного дежурства измотанный до предела; вечно больная и желчная чужая мама чадит на кухне, хмуро кивает на сумку с бельем или на авоську с пустыми молочными бутылками; жена тарахтит стиральной машиной в ванной, в проблеск приоткрытой двери видна ее согнутая спина, обтянутая мокрым халатом; золотушный сын-двоечник, поставленный в угол за разбитое стекло, ковыряет гвоздем стенку и вынашивает планы мщения несгибаемой бабушке; пол скрипит, краска на окнах приподнялась ожоговыми пузырями, телевизор, купленный в кредит, опять барахлит, дача недостроена, у машины помято крыло и протекает картер, дефицитный навоз не сходит с уст тещи; раздражение и усталость заставляют повысить голос, грохнуть об угол авоськой с бутылками, хлопнуть дверью и уйти куда-нибудь.
И вот – тянется вся эта жизнь, слишком похожая на жизнь каторжника, прикованного цепью к тачке до скончания дней своих, когда впереди ждут только старость, неизменные болезни, предательство детей, равнодушие внуков, смерть близких, а потом и своя собственная – жалкая и унизительная, после третьей бесполезной операции, когда твои бывшие коллеги будут улыбаться тебе и фальшиво подбадривать, а выйдя из палаты, скажут друг другу те же самые слова, что ты сам говорил о безнадежных больных, стоя у окна ординаторской с гаснущей папиросой в углу рта и глядя безразличными глазами на стынущие деревья и размытые клубы дыма, уходящие в мутное зимнее небо. Так вот, вся эта жизнь, независимо от общего конца, все эти страдания, унижения и муки, никем не оплаченные векселя теряют свой смысл, если не успеешь оставить после себя добро, нежность, самоотверженную преданность, и лишь изматывающая борьба за крохи свободы поглощает все силы, и без того ослабленные напряженной работой, любимой, проклинаемой, единственной, что дает хоть какое-то чувство ненапрасности и полноты скользящих вниз по склону лет.
Так думал и так любил говорить Чумаков, веря своим словам, доказывая примерами из жизни знакомых и малознакомых людей правоту своих убеждений, ссылаясь на статьи в газетах и на художественную литературу; с ним спорили, над ним смеялись, его жалели, предлагали познакомить с хорошей женщиной, которая будет идеальной женой, при этом, посмеиваясь, указывали на захватанный воротничок рубашки и говорили, что жена до такого безобразия бы не допустила. Чумаков горячился и, поднимая голос, произносил страстный монолог, суть которого сводилась к следующему.
Неужели, говорил он, свободный мужчина должен стремиться закрепостить свободную женщину только для того, чтобы она, как служанка, стирала рубашки, пропитанные его потом, стояла бы в томительных очередях, дышала кухней, преждевременно увядая, утрачивая свежесть, данную природой, терзала свое тело деторождением, выхаживала больного мужа, отказывая себе во многом ради служения тому, с кем связана долгом и законом, терпела бы его безудержное мотовство, припадки хмельной ревности, а то и побои, плакала бы под утро в одинокой постели и потом, после вынужденного развода, коротала бы свои безрадостные дни, изводя детей неразумной любовью и все еще надеясь, что и она найдет когда-нибудь свое счастье.
Неужели, говорил Чумаков, свободная женщина должна стремиться поработить свободного мужчину только для того, чтобы он, не жалея сил, работал бы днями и ночами, теша ее честолюбие, непомерные запросы, чтобы он терпел ее глупость, болтливость, зависть и злословие, исполняя ее прихоти, мирился с самодурством ее родственников, закрывал глаза на ее увлечения и измены, кормил и одевал ее, тогда как в наше равноправное время она вполне может обеспечить себя, не унижаясь до зависимости от чужого человека, ибо муж все равно был, есть и будет чужим мужчиной, которого надо стремиться обмануть, перехитрить, прикинуться доброй и любящей, а на самом деле медленно и верно карабкаться на высоту его выи, чтобы, удобно свесив ноги, посматривать вдаль, покрикивать и давать шенкеля, а то и вонзать иззубренные колесики шпор в многострадальные бока.
Неужели, говорил Чумаков, свободные люди должны стремиться к несвободе и обрекать себя или на рабское существование, или на осмысленное паразитирование, тогда как семья давно перестала играть главную, экономическую роль в государстве и оттого волей-неволей распадается, а люди, в силу консерватизма привычек, все еще не мыслят своего существования без позорного клейма раба – добровольного подчинения другому человеку, деления с ним имущества, судьбы и горечи взаимных унижений.
Большей частью вопросы Чумакова так и оставались риторическими, никто на них не отвечал и отвечать не собирался, ибо речи его казались дурацкими, а мысли, выраженные в них, – болезненными, так как многие знали прошлую личную жизнь Чумакова и относили все эти рассуждения на счет неудавшейся судьбы, озлобления и кучи благоприобретенных комплексов, от которых его избавит лишь могила, что излечивает все беды и болезни, разрубая их, как Александр Македонский пресловутый узел.
Только Юрий Оленев снисходил до дискуссий с Чумаковым и, никогда не загораясь и не распаляясь понапрасну, спокойно и логично доказывал неправоту его выводов. Работали они вместе. Оленев был анестезиологом, Чумаков – хирургом, но если в работе они дополняли друг друга, то во всем остальном совершенно не сходились, и зачастую Чумаков не выдерживал, срывался на крик и обзывал Юрия разными несправедливыми словами, что не приносило победы в споре, а скорее – наоборот.
Впрочем, в чумаковской семье, текучей и разнородной, не обходилось без споров, подчас яростных, иногда бывали биты не только чашки и стекла, но Чумаков не обижался, а чуть ли не гордился тем, что новое и прогрессивное, неутомимо проводимое им в жизнь, встречает отпор со стороны не дозревших до осознания великой идеи людей.
Несмотря на вспыльчивость, характер у Чумакова был мирный, а нрав незлобливый. Он легко уступал в мелочах и, только когда задевали основы его миропонимания, ярился и гневался, ибо, отличаясь широтой натуры, не принимал в людях узости видения и ограниченности мышления. Упреки, казавшиеся ему несправедливыми, он сносил легко, ничуть не обижаясь ни на дурное настроение собеседника, ни на явное подначивание, потому что все это не было главным, и слабость человека не считалась у него худшим грехом. Тем более, что по его теории, греха, как понятия морали, вообще не существовало.
Были подлые поступки и нечистые мысли, были причины и вытекающие из них следствия, преступления и наказания – подчас неизбежные, но грех, как нарушение придуманных запретов, давно потерявших разумное обоснование, объявлялся Чумаковым пережитком религий, наивных и заведомо лживых. Тем более, что в сознании современников понятие греха давно заместилось словами: «непорядочно», «некрасиво», «подло», «лживо» и прочими подобными, так что чаще всего воевал Чумаков с ветряными мельницами и, как водится, – безуспешно.
Он не отчаивался и, все более укрепляясь в справедливости своих идей, жил так, как считал нужным, и по-своему был вполне счастлив, даже в те нередкие часы и дни, когда «семья» доставляла ему неприятности, разочарования и обиды.
3. Сеня
Так было и в это утро. Брат Сеня, в общем-то, добрейший человек, не мог выйти из длительного запоя, и оттого характер его портился на глазах – он стал раздражительным, грубым, покрикивал на Чумакова, а накануне нагрубил Ольге, укорившей его в неряшливости, ибо мыться Сеня не любил, единственную рубашку не позволял стирать, сам не заботился об этом, и расческа давно не касалась его головы. Все споры с ним были бесполезны, в похмелье он становился непереносим, а выпив, хвастался без меры, придумывая на ходу несуществующие подробности из своей жизни, пытался ввязаться в драку и побаивался одного Петю, который не слишком-то церемонился с великим художником.
Сеня и правда нигде не работал уже третий месяц. Зима – мертвый сезон для художников-оформителей, зато весной и летом, взяв подряд на оформление магазина или кафе, Сеня с лихвой восполнял моральный и материальный ущерб, нанесенный ему в межсезонье, раздавал долги, многочисленные и запутанные, потом исчезал из города до поздней осени то шишковать в тайгу, то просто погостить у матери в дальнем селе, но к зиме всегда возвращался и неизменно находил приют у Чумакова.
Чумаков верил в талант Сени и полагал, что все эти мытарства, запои и срывы характерны для большого художника, не умеющего жить по общим законам и постоянно ищущего себя.
Он познакомился с ним года три назад у общих знакомых, куда Сеня забрел в поисках даровой выпивки. Сеня был в рваном свитере, одетом на голое тело, в джинсах, запачканных краской и гипсом, картинно залатанных разноцветными лоскутками. Он молча пил, сидя в уголке на полу, покуривал и в разговоры не вмешивался.
– Кто это? – спросил тогда Чумаков хозяина дома.
– Да так, – поморщился тот, – бич один, надоел хуже горькой редьки, и выгнать неудобно.
Чумаков искоса взглянул на Сеню, и вечно ноющая совесть его тут же нашептала ему, что этот человек одинок и несчастен, что его никто не любит, ему негде жить и нечем заплатить за обед, что в этом большом городе, продутом зимними ветрами, нет ни одной души, способной согреть его или хотя бы выслушать до конца все то, что он мог бы сказать. «Это мой», – удрученно сказал Чумаков своей совести и, не жалея нового костюма, сел на пол рядом с Сеней. Тот не подвинулся, но и не отверг непрошеное соседство и только, скосив глаза на Чумакова, хрипло спросил:
– Доктор?
Чумаков согласился.
– Гипс достанешь?
– Достану.
– Ладненько. Давай адрес, завтра приду.
Чумаков молча написал адрес и вдобавок нарисовал схему, как лучше проехать и как найти дом.
– Не связывайся с ним, – предупредил Чумакова хозяин. – Он пьяница и бездельник, к тому же наглый до предела. Ты его в дверь, а он в окно.
– Вот я и освобожу вас от него, – усмехнулся Чумаков. – У меня окна широкие.
– Да он же тебе на шею сядет! – возмутился хозяин. – Ты ведь добренький, не скинешь.
– Не добренький, а добрый, – поправил Чумаков. – У меня шея крепкая, ты за нее не беспокойся.
– Эх, Вася, – вздохнул хозяин, жалея, – и охота тебе с такими валандаться? Прекрасный хирург, уважаемый человек, а ни семьи, ни заботы о будущем. Думаешь, если попадешь в беду, такие вот спасут? Разбегутся, как крысы, кто куда. А тебе и стакан воды подать будет некому. Женился бы лучше.
– Ради стакана воды в старости? – съязвил Чумаков. – Не слишком ли дорогая цена?
– Странный ты человек, не то женолюб, не то женоненавистник.
– А это одно и то же, – сказал Чумаков, посмеиваясь. – Я люблю женщин и жалею их, но почему я должен предпочитать какую-то одну всем остальным? Это нечестно.
Хозяин покосился на свою жену, хмыкнул и подмигнул Чумакову. Сеня поднялся, шатаясь. Неизвестно, слышал ли он этот разговор. Пошарив в своей затрепанной сумке, он вытащил большую фанерную коробку и, подойдя к хозяину, односложно спросил:
– Где?
Хозяин дома оставил сигарету, засуетился, оглядывая стены и, выйдя в прихожую, крикнул оттуда:
– Здесь!
Сеня направился туда, и Чумаков услышал еще один вопрос:
– Что?
– Нас, – так же коротко ответил хозяин, но потом уточнил: – Меня, жену и дочь.
– Фон? – спросил Сеня.
– Э-э, цветущий луг.
– Потянет. Тогда еще два дня. За сложность.
– Не наглей! – возмутился хозяин.
– Тогда тюремная камера. Бесплатно.
Хозяин ничего не ответил, но, должно быть, состроил гримасу или показал кукиш, потому что Сеня сказал, позевывая:
– Еще бы. Там неуютно.
– Ладно, – нехотя сказал хозяин, вернулся из прихожей и, подойдя к Чумакову, сказал:
– Ну вот, придется его кормить и поить еще четыре дня. Такая уж у него такса, деньгами не берет. Зато рисует! Не видел, какую он картину нарисовал на стене у Иванцовых? Теперь и у меня будет не хуже. Понимаешь, семейный портрет на фоне цветущего луга! Закачаешься!
– Да что он тебя объест, что ли? – брезгливо спросил Чумаков. – Он же честно зарабатывает.
– Да понимаешь, – смутился хозяин, – больно много хлопот с ним. Того и гляди, что-нибудь стащит и пропьет.
Чумаков с сожалением покачал головой и несколько охладел к хозяину дома.
А Сеня брал из большой коробки разноцветные палочки французской пастели и, обозначив на белой стене рамку, начал набрасывать контуры. Чумаков молча постоял у него за спиной, но почувствовав, что посторонний зритель неприятен Сене, не стал дожидаться грубости и сказал только:
– Ты приходи. Можешь без мелков.
Сеня не ответил, шуршали мелки, цветная пыль сыпалась на пол, известковая белизна превращалась в людей и траву.
На другой день, под вечер, Сеня пришел к Чумакову, молча скинул свою большую сумку на пол, не дожидаясь приглашения, разделся и прошел в комнату.
В то время у Чумакова жила волевая женщина по имени Зина, вознамерившая женить его на себе и непримиримая ко всем посторонним. То, что она опасалась других женщин, было естественно, но и друзья Чумакова вызывали у нее неудержимую ревность. Быть может, она боялась дурного влияния или просто из-за врожденной жадности не желала делиться ни с кем, но Сеню сразу же встретила в штыки. По-хозяйски расположившись в кресле с бесконечным вязанием, Зина враждебно покосилась на него, пока Сеня, лениво бросая полусонные реплики, беседовал о том, о сем. Чумакову был интересен новый человек, тем более – художник.
– Зин, – сказал Чумаков, – накорми гостя.
Зина состроила брезгливую гримасу, но на кухню пошла. И пока она нарочито громко гремела стаканами и стучала ножами, Чумаков успел выяснить ряд подробностей о Сене. Как он и предполагал, Сеня был одинок, жить ему было негде, и он ночевал в мастерской приятеля, тоже художника, только признанного, а до этого были у Сени жена, тесть и теща, с которыми он не ужился, и, скидав в сумку мелки и краски, ушел из дома. Возвращаться к матери в деревню он не собирался, потому что там он никому не нужен, впрочем, здесь тоже. Но все-таки город, возможность общения, шансы заработать и, самое главное, обилие незнакомых людей, не мешающих жить ему так, как он хочет. Как ни странно, но людское равнодушие к себе Сеня ставил довольно высоко, по крайней мере – на словах, но Чумаков легко разглядел, что все это – бравада, а на самом деле художник раним, честолюбив, обидчив и, кроме того, всерьез считает себя если не гением, то на голову выше всех прочих холстомарателей.
Остальное Чумаков дослушал уже на кухне, где, разливая по стаканам припасенную водку, постепенно узнал, что у Сени одна рубашка, а вторую он заводить и не собирается, исходя из принципа: «Зачем мне две рубашки, если у меня одно тело», что он в совершенстве владеет каратэ, тремя языками, в том числе японским, сочиняет песни и поет их не хуже Окуджавы, что он открыл новое направление в искусстве и закрывать его не собирается, пока весь мир не склонит покаянной головы перед ним. Достоинства Сени росли соответственно количеству выпитой водки, и, по правде говоря, Чумаков, сразу понявший, что к чему, заскучал и заскорбел душой, ибо хвастунов не любил, хотя и признавал за ними изощренность фантазии и неодолимое стремление к самоутверждению.
Когда Чумаков принес большой пакет с гипсом, Сеня погрузил руку в сыпучий порошок и, оставляя на столе белые следы, сказал свое обычное:
– Потянет.
– Для чего тебе гипс? – спросил Чумаков.
– Маски, – сказал Сеня. – Отливаю маски. Хочешь, подарю?
Чумаков пожал плечами, Сеня притащил свою необъятную сумку и вытащил гипсовый слепок, тонированный чем-то коричневым и блестящим – не то африканская, не то азиатская ритуальная маска.
– Спасибо, – сказал Чумаков. – Мне нравится.
– Еще бы, – хмыкнул Сеня, – настоящая работа. Олокун – бог моря, копия подлинника. Вообще-то я их продаю по червонцу, но для тебя – бесплатно. Смотри и радуйся.
– Здесь и смотреть-то не на что, – вмешалась Зина, – страшилище этакое, еще ночью приснится.
Сеня посмотрел на нее как на пустое место, и это позволило Зине поставить точку в своем мнении о нем.
– Мне он не нравится, – сказала она Чумакову, когда Сеня ушел. – Трепло и нахал.
– Ничего, – сказал Чумаков, – это бывает. Он художник и ему можно прихвастнуть.
– Ах! Ему можно, а остальным нельзя?
– Он очень одинок, – вздохнул Чумаков, быстро устававший от женской вздорности, – и несчастен, оттого и пыжится.
– Ты еще пригласи его к нам жить!
– И приглашу, – сказал Чумаков, – приглашу к себе жить.
Собственно говоря, Сеня не сразу переселился к Чумакову, но стал заходить почаще, и, если не был слишком пьян, с ним можно было долго и увлекательно беседовать о самых различных вещах. Конечно же, Сеня не владел тремя языками и о каратэ знал не больше школьника, посмотревшего парочку фильмов, дело было не в этом, ибо как художник он и в самом деле хоть что-то да значил. Чумаков потом специально ходил смотреть на тот семейный портрет. Он не слишком хорошо разбирался в искусстве, но портрет ему понравился. Чувствовалась в нем легкость уверенной руки, умеющей держать не только стакан с вином. Хозяин всерьез гордился портретом и даже приделал к нему рамку из золоченого багета, что выглядело забавно и убедительно.
Популярность Сени с тех пор еще более возросла. Слух о художнике, рисующем портреты на стенах квартир за еду и выпивку, быстро распространялся, его звали, и он не отказывался. Сеня, видимо, ждал, что и Чумаков будет просить его нарисовать что-нибудь, и подчас сам порывался дарить какие-нибудь сверхгениальные этюды, на что Чумаков отвечал обычно:
– Если тебе их негде хранить, то я сберегу, но это – твое. Не разбазаривай. Зачем ты унижаешься перед этими снобами? Продавать свой талант за еду и вино унизительно.
Сеня быстро ломался, пьяный гонор улетучивался, и временами он даже позволял Чумакову бесцеремонно стаскивать с себя заношенную рубашку и покорно тащился в ванную, где из-за двери выслушивал примерно такие указания: «Открой кран, так, теперь холодную воду, раздевайся, залезай! Возьми мыло, намочи голову, обильно намыль…»
Зина, проходя мимо, презрительно улыбалась и многозначительно крутила пальцем у виска, а Чумаков печально подмигивал ей, давно поняв, что Зина – человек временный в его семье, а Сеня – надолго.
Немало людей успели пройти через этот дом, и сама Зина попала сюда в свое время, как попадают раненые птицы в руки сердобольного человека. Ожесточенная неудачами, разочаровавшаяся в людях и не умеющая найти в себе любовь и прощение, теперь она цеплялась за Чумакова, как за очередной шанс устроить личную жизнь и дать судьбе должное направление. Судьба мыслилась простыми и ясными категориями: муж, ребенок, покой и достаток, растущий с годами. Простыми же словами она доказывала Чумакову пагубность его образа жизни и старалась прельстить иллюзией домашнего уюта, вкусными обедами и самолично связанными свитерами. Чумаков мягко убеждал ее, что жениться он не собирается, что цель его жизни заключается в помощи одиноким и несчастным людям, а женатый человек уже не сможет посвящать себя этому без ущерба для семьи, и поэтому лучше было бы, если бы Зина не тешила себя напрасными надеждами, а пока не поздно, искала бы более подходящего человека. Скорее всего, Зина так и делала, неумело скрывая от Чумакова свои лихорадочные поиски, но почему-то полагая, что Чумаков будет ревновать, безбожно врала, ссылаясь на далеких подружек, задержавших ее до утра, а потом, после очередной неудачи, искренне каялась, плача, и Чумакову снова приходилось залечивать ее раны, успокаивать немудреными словами. В конце концов она нашла то, что искала, и ушла из этого дома, как улетает вылеченная птица, принося себе освобождение, а хозяину радость и облегчение от чувства выполненного долга.
Она ушла, а Сеня прижился, что дало ему повод придумать афоризм: «Зина приходит и уходит, а я остаюсь». Прирученный Сеня, если не капризничал и не впадал в хандру, граничащую с запоем, был кроток и податлив. Рано уйдя из родительского дома, не смирившись с отчимом и властной матерью, он добирал причитающуюся ему долю любви у Чумакова, и тот не жалел сил, чтобы вытравить из его больной души зашибленность и неуверенность в себе.
Сеню не любили женщины. Это можно было объяснить простыми причинами: нескладное худое тело, длинные руки с большими кистями, большой рот, да еще эта несносная манера одеваться в мятое и нестираное тряпье отпугивали от него, но сам Сеня видел в этом факте проклятье, чуть ли не запрет свыше, начальственное указание, чтобы искусить дух и заставить отречься от избранного пути. Чумаков не разубеждал Сеню, только исподволь, беседуя с ним на разные темы, касался и этой, почти запретной, показывая на примерах, что многие великие люди хоть и были несчастны в любви, но для них она всегда служила непреходящим источником вдохновения, и, кроме того, смиряться с судьбой недостойно мужчины, нужно идти наперекор, бестрепетно отводить от себя указующий перст и, если придется, драться до последнего.
В межсезонье Сеня придумывал себе какое-нибудь кустарное занятие: то отливал маски из гипса, то резал по дереву, то пытался заняться литьем по металлу – всем тем, что могло бы прокормить его, или, вернее, занять досуг, потому что продавать свою продукцию он не умел, ссылаясь на врожденную неприязнь к торгашеству и наживе. При этом он придавал лицу гордое выражение и кичливо выпячивал нижнюю губу. Чумаков, посмеиваясь, похлопывал его по плечу, забирал маски и, смиряя гордыню, предлагал знакомым за умеренную плату. Деньги Сене он не отдавал, а прятал в потайном месте – между страниц какой-нибудь книги. Их собирали на памятник Сениному отцу, трагически погибшему лет десять назад. Сеня часто вспоминал о нем и плакал пьяными слезами, говоря, что его жизнь сложилась бы иначе, если бы отец был жив. Это, впрочем, не мешало ему упорно искать спрятанные деньги, находить их и тут же пропивать. Чумаков вздыхал укоризненно, менял тайник, и все шло своим чередом.
Чумаков прекрасно знал, что все это: и кустарные поделки, и летняя халтура – имеет мало общего с искусством; он доставал холсты, покупал краски и кисти, сам сколачивал подрамники и, беря Сеню за шкирку, как кутенка, силком заставлял работать.
– Мне не работается! – кричал Сеня, отбрыкиваясь. – У меня застой!