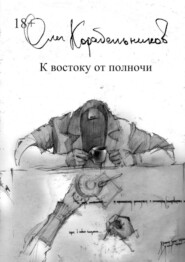скачать книгу бесплатно
– Сказал бы я, где у тебя застой! – рычал Чумаков.
– У меня нет идеи! Нет натуры! Нет вдохновения!
– Нет, так будет! – утверждал Чумаков, всучивая Сене уголек, и садился напротив. – Пиши! Меня пиши!
Сеня ерепенился, бросался тюбиками, но, усмиренный, постепенно втягивался в работу и мстил Чумакову, изображая его то лысым и усатым, то в дурацкой шляпе с пером и в клетчатой юбке. Чумаков одобрительно хмыкал и подзадоривал Сеню обидными словами. Таких портретов, не похожих один на другой, скопилось довольно много. Чумаков заводил знакомства с художниками, показывал холсты, горячо доказывал, что это – явление, и всеми силами пытался протащить хоть один портрет на какую-нибудь выставку. А там, думалось ему, все должно пойти гладко.
Остальные члены «семьи» относились к Сене по-разному. Ольга – благосклонно и терпеливо, дедушка – безразлично, Петя – враждебно, а говорящий скворец изводил его научными рассуждениями о вреде алкоголя, подслушанными в передаче «Здоровье».
– Запеку в тесте и сожру! – угрожал Сеня скворцу.
Тот истошно мяукал и заводил новую пластинку – плохо поставленным меццо-сопрано пел:
– Я пью, мне все мало, уж пьяная стала… – да еще при этом лихо пританцовывал.
Сеня в отместку придумывал все новые гастрономические рецепты, где мясо скворца было основным компонентом, птица не унывала и кричала Сене, просовывая голову сквозь прутья:
– Мазила-горилла! Псих-одиночка! Алкашик-таракашек!
Дуэль заканчивалась капитуляцией Сени. Он задабривал скворца чем-нибудь вкусным, тот легко шел на компромисс, а то и резко менял свое прежнее мнение:
– Пить вино полезно, – изрекал он дикторским голосом, – сброженный сок из солнечных ягод продлевает жизнь, просветляет голову и очищает кровь. – А заканчивал фразу фривольным тоном: – Угостите вином, господинчик, не пожалеете, – и при этом зазывно смеялся.
Его никто не учил говорить, великий учитель и воспитатель – современное телевидение – с утра до вечера вдалбливало в маленькую птичью голову необъятную информацию. Все обо всем.
Сене было труднее. Он рос в таежном селе еще до появления там антенн на крышах и все необходимое получал традиционным путем – через собственные ошибки. Так же, как и Чумаков.
4. Виктория
Город был такой большой, что даже времена года наступали неодновременно в разных концах его. Если, к примеру, в районе, где жил Чумаков, еще не сошел снег, то в больничном парке, куда он добирался на работу, начинали набухать почки на тополях и кое-где проклевывались первые ростки мятлика и сурепки. То же самое происходило с погодой и сейчас: из тихой снежной зимы с заиндевелыми деревьями и глубокими чистыми сугробами Чумаков медленно передвигался в промышленную зону города, где вдоль широких проспектов дул сырой холодный ветер, почерневший снег плотно лежал на асфальте, а дым заводских труб приближал к земле и без того низкое утреннее небо.
Он любил свой город и никогда не согласился бы променять его на любой другой, хоть самый расчудесный. Дело было не в том, что он здесь родился и прожил всю жизнь, и не в том, что могилы родителей, огороженные общей оградкой, были здесь же – на старом кладбище. Весь образ жизни, присущий этому городу, тайга, подступавшая к окраинам, большая река были любимы Чумаковым, и он, не суетясь напрасно, не желал искать от добра добра, если и здесь хорошо.
Даже этот неуютный проспект, продуваемый дымными ветрами, нравился ему хотя бы потому, что уже двадцать лет, пересаживаясь с автобуса на автобус, он проезжает его от начала до конца почти ежедневно – то на работу, то с работы. Впрочем, был период, когда Чумаков этот же путь проделывал на своей машине. С тех пор прошло немало времени, и он старался не вспоминать о днях, когда и сам жил «нормальной» жизнью, в которой было место и жене, и сыну. Ну и было, ну и прошло, жизнь есть жизнь, все меняется и не всегда в лучшую сторону.
Да, не всегда. И эта простая истина порой нелегко дается, ибо путь свой по жизни привычно видишь, как медленное, но неуклонное движение вверх, а когда начинается сдвиг и заранее рассчитанная на многие годы вперед траектория вдруг ломается, превращается в пологую линию, а потом круто падает вниз, то не у каждого найдется достаточно мужества и силы, чтобы вовремя успеть затормозить падение, упасть, не разбиться, выжить и начать жить сначала.
Чумаков рос как все, и был человеком нормальным, то есть безотчетно верящим в свое будущее счастье, непременную удачу и добрую судьбу. На последнем курсе института он подружился с однокурсницей, все было чудесно, и казалось, что впереди долгие радостные годы, уютный дом, наполненный голосами детей, любимая работа, любящая жена и прочее, прочее, что грезится в юные годы, когда желаемое так часто принимаешь за действительное и не веришь в близость неизбежной беды.
Ну да, они поженились, была шумная свадьба в кафе, однокурсники подарили им недорогой сервиз и новенькую подкову – символ семейного уюта и благополучия. Они стали жить у родителей жены, в двухкомнатной квартире им выделили комнату, Чумаков устроился на работу в столовую ночным сторожем, ибо стипендия невелика, а зависеть от чужих людей он никогда не любил.
Так они и остались чужими людьми – невзлюбившая его с самого начала мать жены, то бишь теща, молчаливый тесть, равнодушный ко всему, кроме футбольных матчей и стакана вина перед ужином, и жена – такая же, как и сам Чумаков, молодая, и так же наполненная иллюзиями о безоблачном счастье.
Ссоры начались как-то незаметно и не предвещали разрыва, просто был последний курс, экзамены, выпускной вечер, хлопоты с распределением, ночные дежурства через сутки в столовой, а потом уже – клиника, куда попал Чумаков и с головой ушел в то, что он считал главным в своей жизни – в хирургию. Он приходил уставший, жена работала на более скромном месте – участковым педиатром, но также уставала от дневной беготни, и, как знать, быть может, первое испытание на прочность они просто не выдержали и сдались быстро и покорно, как обреченные на казнь.
Чумаков считал, что причиной раздора явилась теща; жена полагала, что хирургия отнимает слишком много времени у мужа и ей недостает любви и внимания, некогда сходить в кино, часты одинокие ночи, и неизвестно, что делает Вася в своей распроклятой клинике, ведь там так много хорошеньких медсестер и долго ли до греха…
Чумаков всегда был вспыльчив, и несправедливые обвинения бесили его. Однажды он не выдержал и ушел к своим родителям. Он ждал, что жена первая попросит прощения, но оказалось, что любовь уже прошла, да и была ли она, кто знает…
Короче: они развелись. Без слов, без упреков, гордо и непримиримо стояли они в ЗАГСе и молча перебирали свои обиды, когда пожилая женщина, не так уж давно желавшая им многолетнего счастья, вздохнув, поставила печати в паспорта и ничего не сказала. Перед ее глазами прошло много таких гордых и не умеющих прощать.
Шли годы, они почти не встречались, а если и виделись, то делали вид, что не замечают друг друга. Бывшая жена вышла замуж, Чумаков по-прежнему самозабвенно пропадал днями и ночами в больнице, и разные глупости в голову ему не лезли.
А потом умерла мать. А еще через год – отец, и Вася остался один. Он был склонен считать себя взрослым, много испытавшим и во многом разочаровавшимся человеком, и был убежден, что его-то не проведешь на мякине, не обманешь глазками и ножками, девичьим лепетом, женскими стонами, притворными объятиями и лживыми словами, хотя тогда он не был убежденным противником брака, просто не надеялся найти такую женщину, ради которой смог бы бросить все, влюбиться без оглядки, без памяти, до крика, до боли.
И вот дождался…
К тому времени он считался опытным хирургом, и однажды его послали в короткую командировку в далекий северный город, чтобы разобраться на месте в нелегком случае редкого и тяжелого заболевания и, если будет нужда, сделать операцию.
И сейчас, через много лет, он помнит этот полет над тундрой, бесчисленные пятна озер, зеркально вспыхивающие под незаходящими лучами солнца, натужный рев двигателя, мимолетное ощущение провала в пустоту, когда тело скользит вниз, а сердце не поспевает за ним, и вынужденную посадку в маленьком аэропорту в ожидании летной погоды.
Рядом с ним у окна сидела женщина, она дремала, прикрыв лицо от любопытных глаз выжженной прядью. Естественно, Чумаков ничего не знал о ней и за долгие часы полета развлекался тем, что придумывал для нее биографии и судьбы, одну не похожую на другую, произвольно наделял ее достоинствами и недостатками, воображал диалоги, и даже – прикосновение к ее коже, и даже…
Так думал он, пока самолет кренился над тундрой, ее профиль загораживал пол-окна, мгновенная невесомость приподнимала над креслом, но соседка не просыпалась или просто делала вид, что спит, и лишь когда замолкли винты, защелкали пряжки ремней и она, откинув волосы со лба, посмотрела на него, он вдруг понял, что отныне обречен – то, чему суждено быть, будет, и нет возможности избежать общего будущего, каким бы оно ни было.
Не было ночи, солнце не заходило, а делало пологий круг, скользя по линии горизонта нижним лимбом, и снова поднималось к южным высотам, днем было жарко, по ночам досаждали комары, в маленьком здании аэропорта мест хватало только для немногих, и Чумаков выходил в поселок, вернее – в палисадник у аэровокзала, ложился в густую траву, натянув на голову капюшон, дремал, а каждые два часа спокойный женский голос сообщал, что нужный порт закрыт по погодным условиям и бог весть, когда откроется.
На погоду, как на судьбу, роптать бессмысленно. Приоткрыв один глаз, Чумаков исподволь следил за своей соседкой, она держалась поодаль от всех, к исходу первых суток он набрался смелости и, подойдя к ней, предложил мазь от комаров. Она молча поблагодарила, в тундре это было лучшим подарком, ну а потом они разговорились и уже не расставались. Долго. Очень долго.
Чумаков никогда не верил в рок, в любовь с первого взгляда и прочую дребедень, но само имя женщины – Виктория, победное и звучное, прозвучало для него, как пресловутый стук судьбы в известной симфонии.
Они уходили в тундру, расцвеченную ромашками, кипреем, пижмой; пушица склоняла на ветру белые головки; на берегу озерца – недозрелая брусника и морошка; они забирались в воду, прогретую на поверхности и леденящую в глубине холодом вечной мерзлоты, загорали под заполярным солнцем, и уже не было нужды придумывать чужую судьбу, она сама раскрывалась в долгих неторопливых беседах, когда они лежали бок о бок на теплой земле или бродили по тундре, взявшись за руки, как робкие школьники.
Виктория была не просто красива. Она походила на дикую кошку, и сибиряку Чумакову пришло в голову только одно сравнение – с рысью. Гибкое сильное тело, зеленые глаза, вспыхивающие из-под светлой челки, острый ум, цепкая память, пружинящая походка и еще то, что навсегда покорило Чумакова, – Вика писала стихи.
Она всерьез считала себя незаурядным поэтом и, гордо вскинув голову, говорила, что улетает жить на Север от суеты, продажности и зависти всех этих критиков, редакторов и виршеплетов, которые не понимают ее редчайшего дара, и только здесь, среди снегов и безбрежных просторов тундры, она сможет обрести непреходящий источник вдохновения, покой и свободу.
Да, она была замужем, теперь разведена, муж не понимал ее и ревновал даже к стихам, без которых жизни своей она не мыслит. Громко, растягивая слова, отбивая такт рукой, она читала эти стихи, и Чумаков искренне восхищался ими, но совсем не потому, что был тонким ценителем поэзии, а просто-напросто он влюбился, и все, буквально все, в этой женщине казалось ему совершенным и прекрасным.
– Я люблю тебя, – сказал он, – выходи за меня замуж.
Объявили долгожданную посадку; поднимаясь по трапу, он крепко сжал ее за локоть, словно боялся, что она исчезнет, потеряется, сядет на другой самолет, уйдет из его жизни, и уже никогда не сбудется возможное и такое близкое счастье.
Они снова сидели рядом, и она вместо ответа процитировала по памяти несколько строк из рассказа Бернарда Шоу:
– Предположим, что я прихожу к тебе и говорю, что люблю тебя. Это означает, что я пришла завладеть тобой. Я прихожу к тебе с любовью тигрицы в сердце, прихожу затем, чтобы пожрать тебя и сделать частью себя. Отныне тебе придется думать не о том, к чему лежит душа твоя, а о том, к чему лежит моя. Я встану между тобой и твоим «я». Разве это не настоящее рабство? Любовь берет все без остатка…
И Чумаков понял, что это не просто наугад выхваченная цитата, это – угроза. Он невольно содрогнулся от предчувствия близкого перелома судьбы, но не испугался, не спасовал и сказал так:
– Хорошо. Весь. Без остатка. Только не уходи…
В сером, продутом арктическими ветрами городе, где не растут деревья, а голые кирпичные дома приподняты на сваях над вечной мерзлотой, он понял, что любит, и ему все равно, любим ли он, лишь бы она была с ним, лишь бы не уходила.
Шли дни, подходила к концу командировка, он улетел, а потом были письма, ежедневные переговоры по телефону, он умолял, он выпрашивал согласия, как безрассудный мальчишка.
И она приехала к нему. Не сразу. Через месяц.
Они поженились, а он опять страдал, уже от ревности. На Вику оглядывались, о ней шептались, она шла рядом с Чумаковым, гордая и красивая, рысьи глаза недобро светились из-под челки. Она по-прежнему писала стихи, их по-прежнему никто не печатал. А потом у них родился сын, а потом он стал расти, а потом вырос, немного, по грудь Чумакову, больше не успел.
Чумаков и сам знал, что жена никогда не любила его, сначала, опьяненный любовью, он не придавал этому значения, но потом, когда постепенно прошел угар первых дней и ночей, он понял, что Вика согласилась выйти за него замуж после тщательно обдуманного расчета. И на Север тогда она летела не в поисках вдохновения, а к очередному кандидату в мужья. Должно быть, тот человек оказался не столь подходящим мужем, как Чумаков, и она просто сделала выбор. В свою пользу, конечно. Чумаков неплохо зарабатывал, у него была квартира, постепенно они скопили на машину, и Вика часто, садясь за руль, уезжала куда-нибудь, иногда на несколько дней. Чумакову намекали на неверность жены, даже называли имена, но он не роптал, не жаловался. Он понимал, что это бессмысленно, ибо сам влез в петлю, никто не просил, никто не подталкивал.
Он знал, что надо платить за каждое слово, за каждый поступок, за каждую минуту счастья, и что из того, если любовь проходит, а остаются неоплаченные долги, разочарования и обиды. Дело житейское – любовь превращается в привычку, надо работать, кормить и одевать семью, думать о подрастающем сыне, а жена пусть делает, что хочет.
Он и не думал о разводе, а когда случилась непоправимая беда, изменить что-либо уже было невозможно.
Чумаков был в одной из очередных командировок: по санавиации его вызвали в районную больницу, и Вика позвонила прямо туда – в маленькую ординаторскую, где Чумаков отдыхал после операции. Там были незнакомые люди, кто-то громко разговаривал, кто-то смеялся, и Чумаков, прижав к уху телефонную трубку, едва разбирал ее слова.
– Я ухожу от тебя! – кричала она. – Я полюбила другого!
– Я прилечу сегодня! – крикнул он в ответ. – Подожди, и не делай глупости! Мы во всем разберемся!
– Нет! – выкрикнула она. – Так я не решусь. Надо решать сегодня, сейчас, я уезжаю с сыном. Прости меня!
Люди в ординаторской постепенно замолкали, они поняли, что случилось что-то важное у хирурга из областной больницы, и невольно прислушивались к словам Чумакова. А его разозлило это внимание, он повысил голос и сказал те самые слова, которые уже никогда не смог забыть, как ни пытался:
– Будь ты проклята! – крикнул он. – Катись ко всем чертям!
И еще добавил в сердцах короткое слово, сочное, как поцелуй, и звучное, как пощечина.
И бросил трубку на рычаг.
Он выскочил из больницы, на ходу снимая халат, в бешенстве добежал до аэропорта и потребовал билет на ближайший рейс.
– Нелетная погода, – зевая, сказала кассирша и захлопнула окошко.
Туман и дождь соединили их, туман и дождь разъединили.
Поселок был из тех, в которые «только самолетом можно долететь», а на погоду, как на судьбу, гневаться было бессмысленно.
Три дня он сидел в неуютной районной гостинице на неприбранной койке, небритый и невыспавшийся, курил без перерыва, пробовал пить вино, облегчения это не приносило, он звонил домой, но никто не отвечал, тогда он позвонил в свою больницу, и тревожный голос сообщил ему дурную весть.
Настолько дурную, что впору было повеситься или застрелиться.
Чумаков узнал, что Вика собрала вещи, усадила сына на заднее сиденье и, наверное, рассвирепевшая, как дикая кошка, погнала машину по скользкому шоссе.
Тяжело груженый самосвал, который она обошла на повороте, врезался в багажник ее «Москвича». Сын погиб на месте. Ее, израненную и изрезанную осколками стекла, привезли в больницу. Вызвали профессора Костяновского, никто не решился оперировать без него жену Чумакова, хотя были хирурги и поопытнее, и получше, чем профессор.
Да, она еще жива, но кажется, шансов почти не осталось. Она в реанимации, без сознания, возможно, что придется делать повторную операцию…
Тогда Чумаков ушел из гостиницы и уже не выходил из тесного зала ожидания аэропорта, метался от стены к стене, рычал на всех, слал проклятия осеннему туману. А когда прилетел в свой город, то узнал все остальное.
Вика не выдержала второй операции (на ней настоял Костяновский и снова самолично взял в руки скальпель).
Странно было листать историю болезни, где на первой странице написано: Чумакова Виктория. Странно и страшно, как в дурном сне.
– Ее можно было спасти! – кричал он в лицо профессору. – Вы бездарь! Вам нельзя доверять больных!
Костяновский величественно кивал головой и ровным голосом говорил:
– Успокойтесь, Василий Никитич, это нервы. Я понимаю вас, я глубоко сочувствую и разделяю ваше горе. Успокойтесь, вы сами потом поймете, что моей вины здесь нет. Я сделал все, что мог, что может наша медицина. Я боролся до последнего.
– Я этого не забуду, – сказал Чумаков в ярости. – Никогда не забуду…
И откуда было знать, что через много лет почти эти же слова ему скажет другой человек, а он будет успокаивать разгневанного мужа, ищущего вину где угодно, только не в самом себе…
5. Начало дня
Рабочий день начинается с двух планерок, в насмешку называемых пятиминутками, ибо вторая, на которой собираются хирурги, анестезиологи и студенты под предводительством двух профессоров, длится около часа. Чумаков не любил эту планерку, по его мнению, она была не нужна для основного дела – лечения больных людей. Так, говорильня, ярмарка тщеславия, много слов, мало дела, глупые стычки, никому не нужные споры, унизительное выслушивание мелких придирок, образчики ораторского искусства не по существу, а для красного словца и так далее.
Он садился на последний ряд, помалкивал, если не спрашивали, говорил коротко и скупо, когда вынуждали, и чаще всего перешептывался с кем-нибудь – обыкновенные людские разговоры, не требующие ни напряжения ума, ни излишнего остроумия. Шепот переходил порой в громкий смех или что-нибудь в этом роде, тогда профессор Костяновский, величественно приподняв голову, зорко выискивал источник помех и усмирял вежливым окриком.
Чумаков был заведующим отделением; хоть маленькая, но должность, требующая умения подчинять себе нижестоящих и подчиняться вышестоящим – зауряднейшая ступенька социальной лесенки, древней, как сам человек. Ему было все равно, на какой ступени, низкой или высокой, стоит он сам, судьба обделила его честолюбием, и если бы он захотел, то давно бы мог подняться выше, а то и накропать никому не нужную диссертацию и влиться в бесчисленную касту кандидатов, мечтающих стать докторами.
Он и так был доктором, хирургом, рожденным со скальпелем в руках. Талант врача, как и любой талант, – вещь необъяснимая, он весь построен на интуиции, но в хирургии хорошая голова требует еще и умелых рук, а это, что ни говори, дано не каждому. Руки у него удивительные, оперирует он легко и быстро, и когда операция идет гладко, еще и напевает вполголоса, а то и в полный голос, коли больной под наркозом и стесняться, в общем-то, некого – все свои. А свои знают, что если Чумаков поет, то все нормально, причин для беспокойства нет, и руки его делают свое дело настолько красиво, что ими можно любоваться, как руками хорошего пианиста.
Вот и сейчас, возвращаясь с планерки, он проходит по коридорам своего отделения, начальственным оком оглядывает больных, лежащих здесь же на раскладушках, кивает сестрам – чуть ли не двадцать лет он попирает ногами этот пол, эти палаты знакомы ему, и о каждой койке, стоящей в них, он мог бы рассказать немало. Точнее – о людях, волею судьбы брошенных на эти койки: самых разных, но одинаковых в одном – в своих болезнях и в желании быть здоровыми. К сожалению, это не всегда сбывалось.
Впереди была операция, не самая легкая и не самая трудная, обыкновенная, каких он переделал сотни, но, как и положено в медицине, никто и никогда не мог предсказать точно – каков будет исход. Он и теперь, переодеваясь в чистую пижаму, заботливо уложенную в портфель Ольгой, волновался немного, и хотя внешне был спокоен и подшучивал над нерасторопным ассистентом, но в мыслях своих проигрывал заранее этапы операции – каждый раз не похожей на предыдущую, как не похожи друг на друга разные люди.
В кармане хрустнул листок бумаги. Сложенный вчетверо лист из школьной тетради был исписан мелким ровным почерком – письмо от Ольги. Должно быть, она вложила его в карман еще вечером, собирая портфель. Он опустился в кресло и не то вздохнул, не то присвистнул, словом, издал звук, означающий: «Вот тебе на…» Такого раньше не случалось, между ними всегда была ясность в словах и определенность в поступках. Значит, что-то случилось, если она не решилась высказать напрямую, и скорее всего – ничего хорошего ожидать не приходилось.
Он пробежал глазами письмо, перечитал внимательнее, аккуратно сложил листок и спрятал в дальний закоулок письменного стола.
– Ну, пошли что ли, – сказал он ассистенту.
Он не спеша намыливал руки, тер щеткой, дубил едкой муравьиной кислотой и напевал вполголоса развеселую песню, словно ничего не случилось и впереди его ждал праздничный ужин, а не обездвиженное наркозом тело больного.
– Привет, – сказал он Оленеву, заходя в операционную. И всех остальных тоже поприветствовал поднятыми вверх ладонями.
Привычными движениями он окрашивал йодом живот больного в густо-оранжевый цвет, закрывал тело простынями, нацелив отточенный скальпель, рассекал кожу, а сам, конечно же, думал не только о предстоящей работе.
6. Ольга
Несколько месяцев назад на этом же столе лежала и Ольга, и Чумаков так же позванивал инструментами, покрикивал на ассистентов, переговаривался с Оленевым и делал свое дело, обреченное на провал. Собственно говоря, были вполне реальные шансы, так казалось до операции, но когда невидимое стало видимым, Чумаков глухо заворчал под маской, неразборчиво выругался и сказал: «Ушиваемся. Нам тут делать нечего».
Ольга учила детей премудростям скрипичной игры. Ей не было тридцати лет, и сорокалетнему Чумакову она казалась совсем юной. Тем острее были его боль и чувство бессилия, когда в первые дни после операции он подходил к ее койке во время обхода, ласково улыбался, говорил ободряющие слова, стараясь сам верить им. Уж лучше бы он ничего не знал. Так было бы легче.
Но еще лучше было бы, если бы Чумаков не сказал всей правды ее мужу, когда тот пришел в приемный покой на другой день после окончательного приговора. Чумаков вывел его в больничный двор и коротко сообщил, что жить Ольге осталось не так уж и много – чуть больше года, от силы два. Муж растерялся, во всяком случае, лицо его стало замкнутым и напуганным, Чумаков мягко взял его за локоть и добавил:
– Мне очень жаль.
Но муж неожиданно зло сказал сквозь зубы:
– Я найду на вас управу. Зарезали!
– Вы ошибаетесь, – сказал Чумаков, привыкший ко всяким переделкам, – мы сделали все, что могли. Оперировать было поздно. Болезнь запущена. Но пытаться стоило. Это уже ничего не изменит.
– Это вы, врачи, ее запустили! – выкрикнул муж Ольги. – Почему не оперировали раньше?