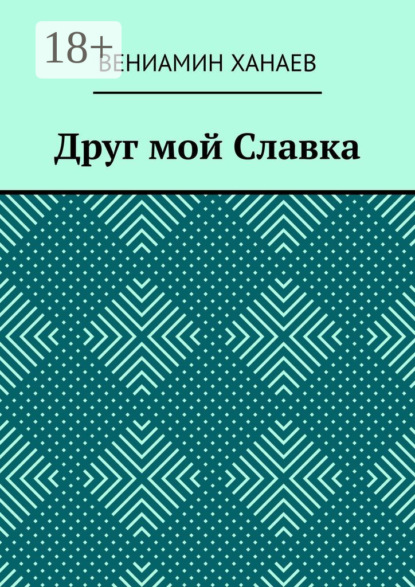
Полная версия:
Друг мой Славка
Класс у нас подобрался неплохой и в целом дружный. Учительница тоже оказалась, хоть и молодая, но хорошая. Всегда спокойная, уравновешенная, Татьяна Олеговна никогда ни на кого не повышала голос. Да этого и не требовалось, все и так её беспрекословно слушались. Единственным за что она переживала были взаимоотношения с родителями, многие из которых были существенно старше начинающего педагога по возрасту. Здесь на помощь пришёл родительский комитет.
После первого же родительского собрания в родком выбрали Славкину маму и моего отца. На повторном голосовании, уже среди только членов родкома, его выбрали председателем, а Славкину маму заместителем. Неожиданно для самих себя мы со Славкой стали в классе одними из самых важных людей. И то правда – в век отсутствия мобильных телефонов и электронной почты всё общение между Татьяной Олеговной и родительским комитетом происходило в «ручном режиме», с помощью курьеров – меня и Славки. Мы постоянно таскали в своих ранцах записки, какие-то раздаточные материалы, книги, брошюры и всевозможные, необходимые для организации продуктивной работы класса, мелочи. Из минусов нашей должности было то, что ни в коем случае нельзя опаздывать и, тем более, болеть. Впрочем, оба мы жили недалеко от школы, поэтому добежать до неё всегда можно было за пару минут, а болеть нам и самим уже порядком надоело за время детского сада.
В начальных классах мне было очень легко и даже скучно учиться. Не хвастаясь, скажу, что я пошёл в школу имея очень хорошую подготовку. Это была заслуга моих родителей. Они, несмотря на всевозможные предупреждения и ужастики по типу «его придётся переучивать и калечить ему психику», научили меня читать, считать и писать печатными буквами. Поэтому долгое время я искренне негодовал по поводу того, как можно так тупить, пытаясь сосчитать приклеенные к доске липучкой картонные морковки или яблоки, и почему всех этих «одноклассников» не оставили ещё на пару лет в детском саду, а приняли в первоклассники? Славка тоже учился легко и хорошо. Ему труднее давалась математика, зато читал он гораздо лучше меня.
Утром мы встречались во дворе возле булочной и шли в школу. Я со своим коричневым ранцем и матерчатым мешком для сменки, сшитым моей мамой специально для школы. Славка в своём всепогодном лётчицком шлеме – предмете моей тихой зависти и с перекинутой через плечо настоящей армейской «планшеткой» – со специальными гнёздами для карандашей и приспособленной для ношения дневника целлулоидной подложкой под клапаном, где по определению должна была находиться карта военных действий. Однако с «планшеткой» Славка проходил недолго. Через несколько месяцев после начала учебного года его отправили на обследование в центр ортопедии, где поставили неутешительный диагноз – прогрессирующие сколиоз, кифоз и ещё какой-то «-оз». Врачи, вынеся неутешительный диагноз, внесли целую кучу запретов – спину всегда держать только прямо, спать только на жёстком, сидеть только в определённой позе, делать по часам специальную гимнастику и никаких сумок через плечо или нагрузок на одну сторону. Специальных ортопедических рюкзаков тогда не было ещё и в помине, поэтому Славке купили обычный дерматиновый ранец и вставили в прилегающий к спине карман кусок фанеры.
Первое время нам даже не ставили оценки. Это очень сильно травмировало. По фильмам мы знали, что в школе, тем кто хорошо учится, ставят «пять» и зовут «отличниками», а тем, кто ленится, выставляют «двойки» и называют «двоечниками». Конечно же «Отличником» быть всяко-разно лучше, чем «двоеШником», поэтому мы старались учиться изо всех сил. А вот здесь-то и крылась засада: учишь, учишь, стараешься, стараешься, а тебе в прописи, вместо заветной красненькой пятёрочки пишут синей ручкой слово «Молодец!». Правда, с восклицательным знаком, но что это может поменять? Грубая подделка, да и только! Спустя некоторое время оценки всё-таки начали ставить, но, почему-то пятёрки уж очень быстро обесценились, а вот двойки, наоборот, стали придавать уважение в глазах одноклассников…
Годы замелькали один за одним. Мы ещё не успевали привыкнуть к четвёртому классу, а уже переходили в пятый, шестой, седьмой… Надо сказать, что нам практически везло с учителями. С Татьяной Олеговной пришлось попрощаться после третьего класса. Да, раньше начальная школа была трёхлетней. В четвёртом классе нас подхватила Надежда Петровна – добрая и по-домашнему заботливая. Некоторые остряки сразу же стали называть её Петрушей, но у нас со Славкой язык на это не поворачивался. Хотя, в угоду читателям, такой персонаж присутствовал в нашем «Альманахе». Надежда Петровна сопровождала нас до восьмого класса включительно, после чего с прыжком через девятый класс нас приняла Галина Леонидовна. С нею у нас отношения сложились относительно – терпели друг друга на протяжении двух лет, хотя, сейчас, по прошествии времени, могу сказать, что считала она нас шпаной и хулиганьём далеко не во всём зря.
Из-за учительницы нам очень нравилась химия. Молодая, красивая, какая-то вся современная, с первого дня она вызвала интерес у всей мужской половины школы. Да и женской тоже – девчонки старались подражать Нине Ивановне, тайком делая такие же причёски и копируя походку и поведение. Мы со Славкой из-за яркого сходства между собой называли её Си-Си-Кейч. Старшеклассники в первый же её рабочий день закинули в кабинет во время урока похоронный венок с чёрной лентой и словами признания в любви. Да что там старшеклассники, мы тоже, можно сказать любовались химичкой, а некоторые так и вообще теряли у неё на уроках дар речи:
– Грехов! Грехобор несчастный! Когда ты уже выучишь, что такое молярная масса?
– Мммммм…
– Что ты мычишь как не доёная корова? Кстати, о коровах! Есть же ребята, которые живут в «Нахаловке», коров пасут, сено косят, но ведь и к урокам готовятся! А ты?
– Ммммм…
Отчитывая бестолкового Грехова, Нина Ивановна и не подозревала, что он как раз и живёт в «Нахаловке» – частной застройке между Академгородком и Ангарой и что его родители держат стадо коров, за которыми парень следит и ухаживает почти всё свободное от учёбы время…
Трудовики были классические – хромые, грубые и похмельные. Не помню их имён-отчеств, но, в принципе, руками они нас работать научили. Особенно с деревом. Ближе к старшим классам труды заменили на черчение. Вёл его высокий чернявый мужчина с усами, по прозвищу Циркуль. Он постоянно улыбался и терпеливо обучал нас точить карандаши, отмерять углы и строить на ватмане фигуры. А в старших классах труды заменили на учебно-производственный комбинат или УПК. В наше время школа была обязана выпустить своих учеников с двумя аттестатами – учебным и трудовым.
На УПК мы получали рабочие специальности. К сожалению, водителей к тому времени уже сократили и выбирать пришлось между столяркой и слесаркой. Столярка была ближе и приятнее. Мало того, что столярничать мы полюбили на школьных трудах, так и помимо прочего мастерили всё, что только возможно уже вне школы. На первом же теоретическом занятии, которое вёл сам директор УПК нам объявили, что теперь мы взрослые, поэтому будем работать не только для учёбы, но и за деньги. А выпускать будем продукцию, которая будет реализовываться по школам и детским садам: стулья, швабры, шкафы, лавки, полки, стеллажи и т. д. Кто будет посещать все занятия, будет получать хорошую зарплату, не ниже квалифицированных рабочих. Через два года успешного обучения выпускники получат диплом о получении квалификации столяра не ниже четвёртого разряда, предложения о возможном трудоустройстве от крупных предприятий и… всё заработное, так, ориентировочно, тысячи полторы-две. И, конечно же, все кинулись зарабатывать свои тысячи. Просто для сравнения – в то же время я подрабатывал в школе охранником в раздевалке и подвал звонки. Каждый день с двенадцати дня до восьми вечера. Получал за это что-то в районе двадцати пяти рублей, а здесь – за работу раз в неделю полторы-две тысячи! Как одержимые мы кинулись мастерить мебель. Чтобы легче работать – сколотили мини-бригаду, разбили производственный процесс на этапы и в первый же месяц выполнили план! В бригаду вошли Славка, двое парней из какой-то другой школы, я и Серёга Бурмик – весёлый разбитной парень, довольно раздолбаистый, но, в тоже время надёжный и хороший друг. Нас даже вызвал к себе директор УПК и торжественно произнёс:
– Молодцы! Считайте, что рублей по восемьдесят вы уже заработали! Деньги появятся после продажи продукции и будут отложены каждому из вас в индивидуальную копилку!
После такого сообщения мы и дальше пилили, строгали, сверлили и колотили, даже задерживаясь после занятий, а наши копилки постепенно пополнялись и пополнялись внушительными суммами. Так продолжалось почти полтора учебных года. Получение аттестатов и зарплаты приближалось. Перед Новым годом нам объявили, что ближайших занятий не будет, вместо этого организуют большую дискотеку и праздничный обед. Деньги на всё это будут высчитаны из наших заработков. Естественно, на праздник никто из нас не пошёл, все предпочли сэкономить. Ну, а после праздника, нам было объявлено, что дискотека и обед прошли на «Ура!», было много гостей со всего города, мероприятие получилось знаковое для нас и для УПК, а денежки наши того… Потрачены на мероприятие, ещё даже и не хватило…
Естественно был скандал. Ну, как скандал? Что скандального могли сделать шестнадцатилетние пацаны? Никаких бумаг и договоров мы не подписывали, на работу не оформлялись. Школа нас не поддержала. Сказали только, что без аттестата УПК нам не выдадут аттестат об образовании. Вот и всё. Нет, не всё. Мы объявили забастовку. Славка, я и Серёга напрочь забросили проклятый УПК. Оттуда написали в школу, классная пугала нас невыдачей аттестатов, по-моему, звонили и кому-то из наших родителей, просили хотя бы приехать и забрать диплом о получении рабочей специальности. За дипломами мы тоже не приехали и остались столярами-краснодеревщиками четвёртого разряда без подтверждения. Вдобавок я без этого долбанного УПК в итоге не натянул на медаль…
Вспоминая яркие моменты нашей учёбы не грех вспомнить и уроки начальной военной подготовки (НВП). Этот предмет был в десятом и одиннадцатом классах. Преподавал его пожилой отставной майор, лётчик. В общем-то, неплохой мужик, но армия явно оставила на нём неизгладимый след. Мелкие пошлости и тупые анекдоты, намеренное коверкание фамилий учеников и постоянное подтрунивание над девчонками. Уроки были совмещёнными – мы вместе с ними изучали воздействие иприта, зарина или зомана, в какую сторону падать при вспышке ядерного взрыва, устройство автомата Калашникова и многое другое. Перед уроком военрук поджидал нас в коридоре на построение. Пройдя вдоль строя и убедившись, что дамы сегодня при начёсах и макияже, удовлетворённо хмыкал и объявлял:
– Так! Сейчас заходим в класс и сдаём норматив на надевание противогаза!
– Мы же уже сдавали?!
– Повторяем сдачу норматива на надевание противогаза!
– Уууууууу!..
– Не «У…», а «Так точно!», проходим в класс…
Норматив сдавался на лучшее время из трёх попыток. Убедившись, что макияж у девчонок окончательно размазан, а начёсы больше напоминают коровьи лепёшки, военрук удовлетворённо потирал руки и объявлял:
– Вот теперь молодцы! Кто там ржёт? А? Я спрашиваю, кто там ржёт как спутанный конь? Ханаев!
– Я!
– Толчин!
– Я!
– Наржались? Тогда вам дополнительная задача – сдача норматива по общехимической защите!
Этот норматив вещь противная. От тебя требуется поверх школьной формы натянуть костюм общехимической защиты (ОЗК) и противогаз, всё это зашнуровать и подогнать, потом бегом сделать круг по школе – тщательно, по всем этажам, чтобы все видели и знали долбонов. Потом забежать в класс, расшнуроваться и повесить костюмы на место. И всё это на время, которое фиксировалось и записывалось. У военрука была даже своя доска почёта – куда он записывал имена и фамилии рекордсменов.
Отставной майор достал секундомер, замер, потом махнул рукой и громко скомандовал:
– Начали!
Деваться нам было некуда, но и срамиться перед всей школой конечно же не хотелось:
– Слышь, Славка? Давай не побежим!
– Это как?!
– Да просто. Он же никогда не выходит из класса, здесь со своим будильником ждёт. Отойдём от двери по коридору несколько метров, а дальше будем помаленьку топать, как будто бежим!
– Гыыы… Идея!
Мы натянули на себя ОЗК и противогазы, помогли друг другу зашнуроваться и выскочили в коридор. Там, громко протопав с десяток шагов вперёд мы стали подпрыгивать на месте, изображая топот бегущих ног.
Даже без настоящего забега мы скоро вспотели. Вдобавок пот заливал глаза под масками противогазов.
– Может хватит?
– Да, наверное, потопали к классу!
Повернувшись назад мы увидели военрука с секундомером, который нарушил своё правило – не выходить из класса и всё время стоял у нас за спиной наблюдая за нашей халтурой.
– Так! Молодцы! За проявленную отвагу выношу вам благодарность и в целях дальнейшего поощрения принимаю норматив по эвакуации от ударной волны при разрушении Иркутской ГЭС!
– ?????
– Воон там, видите, за дорогой гора. На её макушке фонарь. Цель – добежать от дверей школы до фонаря на макушке горы. Коснуться его рукой и прибежать обратно. Добежать, коснуться и вернуться обратно! Бегом добежать и бегом вернуться! Я наблюдаю за вами в бинокль!
Так мы со Славкой узнали, что, если плотина иркутской гидроэлектростанции будет разрушена в ходе военных действий, то самой близкой точкой для всего города, где можно спастись, будет макушка сопки за Академгородком. Туда приливная волна не достанет, а дойдёт к её подножию за четыре минуты двенадцать секунд. Только нам со Славкой это хрен поможет, потому что бегаем мы как беременные тараканы и наше время эвакуации составляет аж целых девять минут и двадцать три секунды. А если и дальше будем на занятиях по НВП ржать как не доеные кони, то сдачу норматива будем совершенствовать до идеала, пока не уложимся в установленное время и не улучшим результат. Только уже не налегке, в одном презервативе, а в костюме ОЗК.
Недалеко от школы достроили сказочный городок. Мы плотно обжили это место и собирались здесь до, после, а то и во время уроков. Нет, никто особо не хулиганил, ничего не портил и не ломал. Всё использовалось по назначению. На качелях – качались, даже зимой, а с горок – катались, даже летом. Особенно интересно было играть в «московские» жмурки. Откуда пошло это название, даже и не скажу. Но почему-то, в тот период эта была самая интересная для нас игра. Водящему шарфом, а позднее, пионерским галстуком плотно завязывали глаза, после чего он должен был ловить остальных участников. Фишка была в том, что ведущий мог ходить где угодно, а остальные не могли касаться земли – только перелезать с одного на другой предмет в сказочном городке. Играли азартно, каждый день и в любую погоду.
Постепенно у нас сколотилась крепкая команда. Как водится, все без исключения получили прозвища, которые, как тогда казалось, уже навсегда заменили данные от рождения имена. И конечно же, основоположниками в этой области стали мы со Славкой. Здесь наша фантазия получила новый стимул и выдала всё по максимуму. Без хвастовства, а скорее со стыдом, местами, надо сказать получилось даже очень неплохо.
Невысокий, но коренастый и очень сильный Кирилл, тот самый «грехобор» из «нахаловских» сначала звался просто Кирьяшкой, но со временем был переклассифицирован в Быню. А как иначе? Упрямый, квадратный, встанет широко расставив ноги и втянув широколобую голову в плечи, глядит на тебя, не моргая, широко посаженными глазами и сопит, раздувая широкие ноздри. Вылитый бык или Быня. Кирьяшке даже нравилось, когда его так называли. Крайне немногословный, он всегда улыбался, когда его окликали:
– Эй! Быня! Здорово! Пойдёшь в Сказочный городок?
И дико бесился, когда, пытаясь его в шутку позлить мы со Славкой затягивали нарочито гнусавыми голосами, на мотив песенки Капитана Врунгеля:
Деревенские ребята,
Захотели молока.
Надо было под корову
А полезли под быка.
Тянут Быню за пупыню:
– Дай нам Быня молока!
Быня высунул пупыню
И напысал три горшка!
Бегали мы лучше Кирьяшки, поэтому лишь изредка получали от него затрещины и продолжали музицировать.
Ещё был Максим, или Макс. Мы знали его с самого детства, он жил через подъезд от меня, но, несмотря на почётный статус «своего» никогда не участвовал в наших дворовых играх. Почему? Да потому, что пианино. Все носятся как угорелые с самострелами или брызгалками, галдят, играют в прятки. А Макс выйдет из подъезда, встанет на лестнице на спуске к булочной, потрёт ногу об ногу в сандаликах на пряжках, грустно вздохнёт и пойдёт, шаркая ногами и волоча за собою нотную тетрадь на сольфеджо или как его там…
Макс был очень умным, впрочем, почему был? Надеюсь, что жив-здоров и всё также одарён и талантлив. Только вот списывать никогда не давал – всё порывался объяснять, рассказывать на других примерах, только не списывать. И за это из Макса превратился в Какса. Какс ему страшно не нравился, просто выбешивал. В результате, не только списывания, но и объяснения почему-то вдруг резко прекратились. Поразмыслив над своим поведением, мы со Славкой решили немного подсластить пилюлю и переделали Какса в Кекса. Впрочем, Кекс тоже не устроил Макса по всем параметрам. Напряжение росло, мы со Славкой были в полном отчаянии, поэтому, после долгих размышлений и обсуждений Кекс превратился в Торта. На том и порешили.
Где-то классе в шестом, на традиционной в начале учебного года линейке к нашему классу пристроился какой-то незнакомый парень в модной светло-голубой куртке. Поначалу никто не обратил на него внимания – многие не виделись всё лето и хором тараторили, пытаясь одновременно вывалить друг другу весь поток накопившейся информации. Линейка закончилась, и мы потянулись внутрь школы на классный час. Незнакомец пошёл за нами следом. Классная где-то задержалась, поэтому класс был закрыт и все столпились в коридоре. Кирьяшка уставился на незнакомого парня, внимательно осмотрел с ног до головы и подошёл к нему вплотную по бычьи втянув голову в плечи и раздувая ноздри. Хоть Быня и был почти на две головы ниже новичка, ничего хорошего это не предвещало.
– А ты кто такой?
– Я?
– Ты, ты…
– Я – Андрей, меня перевели к вам учиться. У моего отца есть «Волга», а ещё он часто ездит заграницу, и скоро мы…
Новенький не успел договорить, как Кирьяшка врезал ему в челюсть:
– У нас не принято хвастаться, понял? Будем знакомы!
Кирьяшка протянул всхлипывающему и ощупывавшему своё лицо новичку свою широкую и крепкую ладонь.
Андрюха оказался вполне нормальным парнем. Зачем он сходу начал рассказывать про родительскую «Волгу» и заграницу так и осталось неясно, наверное, хотел с первого же дня выделиться и самоутвердиться на новом месте, но у нас в то время так не было принято. А ещё у новичка была одна отличительная особенность – он очень любил рассказывать анекдоты. Неважно – старые или свежие, слушает его кто-то или нет. При этом Андрей всегда принимал одну и ту же позу – широко растягивал в улыбке рот, зажмуривался и начинал потирать руки, ладонь об ладонь. Он приглушал голос, как будто рассказывал что-то очень секретное, а после сам же начинал хохотать, покачивая вперёд-назад головой и продолжая тереть ладони. Хохотал долго и заливисто, даже если его никто вокруг не слушал и не смеялся. В этот момент он становился похожим на китайский болванчик, приклеенный к панели приборов в машине Славкиного отца. Тогда это была ещё большая редкость и нам очень нравилось наблюдать за этой фигуркой с такими же глазами-щёлочками и натянутой от уха до уха улыбкой, начинающей болтать головой на кочках. Как-то мы спросили у Дяди Вити, что обозначает данная фигурка:
– Это мандарин.
– Какой мандарин? Это же человечек!
– Мандарин – это китайский чиновник, а фрукт в своё время назвали так, потому что он был редкий и поначалу предназначался только для избранных – китайских императоров и чиновников.
Так Андрюха стал Мандарином. Впрочем, как и в случае с Максом-Тортом, постепенно превратился в Апельсина, потом в Пельсина и, наконец, в Липисина. К слову, быть Липисином Андрею даже очень понравилось, и он даже гордился своим прозвищем, используя его при очередных рассказываниях анекдотов.
Можно было бы до бесконечности перечислять все, надеюсь не слишком обидные, прозвища и рассказывать про их обладателей, но, наверное, надо закругляться. Остановлюсь только на двоих – Митяе, долгое время считавшемся нам близким другом, и Славке.
Митяй был высокорослым спортивным парнем с золотистыми волосами и большими глазами, чем-то очень похожим на Сыроежкина или Электроника. Из-за своей внешности и прирождённого цинизма он очень нравился девчонкам, которые безотказно соглашались с ним дружить, танцевать на дискотеках или встречаться после школы. В свою очередь Митяй, можно сказать с малых лет, не стесняясь в красках рассказывал о своих похождениях с первыми красавицами параллели, а чуть позднее, и младших, следовавшим за нашим, классов.
Отец Митяя – тихий и скромный мужчина, увлекавшийся музыкой и живописью. Он часто проводил у нас классные часы, ведя тематические беседы и показывая слайды со своими картинами или фотографиями Кругобайкалки. Мать же, наоборот, была пробивной и напористой женщиной, водившей дружбу с самой директрисой школы. Дед и бабушка были ветеранами, которых неизменно приглашали в школу в качестве почётных гостей на все праздники. Может быть поэтому, Митяю, никогда особо не отличавшемуся ни учёбой, ни поведением не только всё сходило с рук, но и удавалось без всякого предварительного отбора участвовать в различных почётных мероприятиях, будь то дежурство у Вечного Огня или областной конкурс горнистов и барабанщиков.
А ещё наличие в семье аж целых двух ветеранских книжек позволяло Митяю пользоваться тем, что большинству из нас было просто недоступно. Постоянно меняющиеся магнитофоны, электронные часы, три пары джинсов, кроссовки, россыпи кассет и продуктовые пайки. О последних особо. В середине восьмидесятых в магазинах и так не богатого на деликатесы Иркутска наметился тотальный дефицит. Потихоньку на всё подряд вводились талоны, за простыми и каждодневными продуктами, такими как сахар, молоко, яйца и даже хлеб выстраивались огромные очереди, причём без гарантии приобретения товара после многочасового стояния. Конечно, голодом мы не сидели – моим и Славкиным родителям иногда удавалось чего-нибудь урвать, но и особого разнообразия на наших столах не наблюдалось. Картошка, щи, салаты из сезонных овощей, чай с самодельными сухариками и вареньем (кофе только для гостей или особых случаев). В общем терпимо и для обоих привычно. Митяй же наоборот, практически каждое утро начинал с рассказа о том, что принесли ему накануне из ветеранского спецмагазина и что он ел на завтрак.
И вдруг, с какого-то перепуга Митяй начал проявлять к нам интерес. Стал подсаживаться поближе на уроках, подходить на переменах, приносить и давать переписывать и слушать кассеты. Последнее, конечно, подкупило… У нас тоже со временем появились свои магнитофоны, далеко не навороченные, но всё же… Только вот репертуар заметно хромал, состоя на первых порах большей частью из родительских Магомаевых, Пугачёвых и прочих Малежиков. А вот нашего, нет – НАШЕГО, было до обидного мало по причинам дефицита кассет и слишком малых отчислений на звукозапись из родительских бюджетов. А тут, вдруг, Митяй – с целой стопкой денонов, агф и басфов, а на следующей неделе с другой такой же стопкой и т. д. Вот только дошло до нас то, что требуется взамен далеко не сразу. А требовалось служить, быть свитой королю. В школе нас со Славкой не трогали – знали, что можем постоять за себя, но, при этом мы, никогда никого не трогали сами. Поэтому отношения у нас были одинаково ровными со всеми – старшеклассниками, параллелью, «нахаловскими», «дворовыми» и даже кое-какой шпаной. И Митяй решил нас прикормить, сделать своими ручными телохранителями, но, при этом, разобщить. Делалось это просто: сегодня тебя приглашу к себе в гости, а завтра – тебя; сегодня тебе дам кассету переписать, а завтра – тебе. И никогда – и тебе, и тебе! При этом насмешки то над одним, то над другим, лёгкие унижения, особенно в плане одежды или обуви. В общем, терпели мы всё это не долго. Уже не помню после каких событий, договорились никогда и ничего у Митяя не брать, кассеты покупать и переписывать вскладчину, ну, а Митяй с той поры стал для нас Минтаем – скользким, серым и водянистым как одноимённая размороженная рыба.



