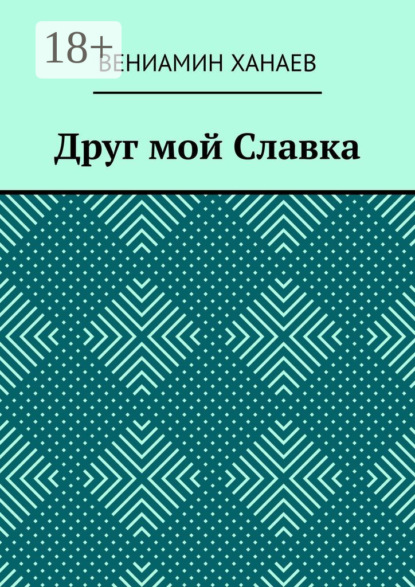
Полная версия:
Друг мой Славка
Зато мы любили лепить из пластилина. Опять же не как все. И не аппликации, когда на картонке с заранее нарисованным воспитательницей силуэтом какого-нибудь цветка, необходимо было заполнить цветным пластилином его контур. А именно лепить, даже не лепить, скорее конструировать и строить. Конечно-же ракеты и космические корабли. С иллюминаторами, люками и маленькими человечками внутри. Снаружи с боков приделывались заполненные водой «топливные баки», а снизу опоры или ступоходы. К «кораблю» приделывалась нитка и он мог почти по-настоящему летать раскрученный с её помощью. Поэтому у нас всегда был праздник, когда воспитательница ставила таз с пластилином под кран с горячей водой, чтобы сделать его более мягким и податливым. Цветной почти всегда отдавали девчонкам – лепить цветочки, ну, а мы довольствовались уже бывшим в употреблении – перемешанным и какого-то непонятного, что-то напоминающего цвета. Да и пофиг – лепится, и ладно!
Ну, и, наконец прогулки. В этом отношении нам с садиком крупно повезло. Новый, по улучшенному проекту, он располагал отличным двором со множеством различных фигурок, строений и инсталляций. У каждой группы была своя веранда, где в хорошую погоду проводили занятия, а иногда даже устраивали сон-час. Песочницы, домики, спортивные уголки и всевозможные лазилки-прыгалки. Посреди всей этой роскоши стоял кирпичный домик, оштукатуренный и покрашенный в белый цвет. Там хранились самые настоящие богатства – игрушки для улицы. Это то, чем нельзя играть в группе: трехколёсные велосипеды, игрушечные автоматы ППШ, тележки, большущие грузовики и коляски для кукол. Зимой там же размещались лопатки для снега, лыжи и всевозможные формочки.
В девяностые годы наш детский сад закрыли. Детей стало гораздо меньше, чем в советское время, а содержать такие объекты стало очень дорого. Какое-то время здание стояло пустым, но, к счастью спустя какое-то время в нём открыли начальную школу. По стечению обстоятельств в эту школу ходили мои дочь и сын. А по ещё большему стечению – их классы располагались в помещениях где была наша со Славкой группа. Начальная – на первом этаже, а средняя и подготовительная – на втором.
Меня из садика обычно забирали отец и мама вдвоём, за Славкой всегда приходила мама. Темноволосая, как мне казалось, строгая и неразговорчивая женщина. Правда вскоре оказалось, что это совсем не так. Наши родители тоже довольно быстро познакомились, а потом выяснилось, что мы и вовсе живём в соседних дворах.
Постепенно мы стали заглядывать друг к другу в гости. Славка приходил ко мне повозиться с собакой – боксёрихой Ладой. Из-за аллергии и возможных осложнений он просил не рассказывать об этом его родителям. А ещё у меня был бинокль и старый фотоаппарат «Зоркий-С», который был отдан мне отцом на растерзание, потому что перестал снимать, а отремонтировать его никак не удавалось. Но все ручки-крутилки у него были на месте, поэтому возможность перематывания «плёнки» и «фотографирования» со щелчком оставалась.
Тогда в Академгородке ещё не успели построить длинную девятиэтажку внизу, микрорайон Солнечный только застраивался, а зрение было ещё совсем хорошее. Поэтому с балкона моей квартиры было очень хорошо видно плотину ГЭС, саму Ангару и даже аэропорт на противоположном её берегу, вернее не сам аэропорт, а стоящие на его границе шарообразные строения по шахматному выкрашенные в белую и красную клетку. А ещё хорошо были видны плывущие по Ангаре корабли и с гулом взлетающие в аэропорту самолёты.
Мы украдкой выползали на балкон и садились в засаду. Настоящие разведчики, которые просто обязаны засечь вражеский корабль или самолёт. Сначала цель разглядывалась в бинокль, а потом снималась на фотоаппарат. Затем всё это тщательно с помощью каракуль (писать-то ещё не умели) фиксировалось в журнале наблюдений. Журнал тоже был настоящий и, как мы считали, военный. Для этих целей мой отец отдал нам зелёную книжицу с надписью: «Полевой дневник». В нём, помимо клетчатых страниц был карман для записок, петля для карандаша и отдельная вкладка из листов кальки и миллиметровки. Так что можно было не только зафиксировать появление «врага», но и составить точную карту его месторасположения.
Фишкой Славкиной квартиры были чучела оленя и косули. Не в полный рост, конечно, но почти как настоящие. На одной стене висела голова оленя с огромными ветвистыми рогами, а напротив её – косули с маленькими рожками. Всякий раз я заходил туда как в музей. Такие экспонаты разглядывать было очень интересно и нисколько не надоедало.
А вот что у нас было общего, так это фанатичная чистота. Матери, напуганные нашими болячками, скоблили и оттирали всё, что было можно. И всё, что было нельзя, тоже скоблили и оттирали. По нескольку раз в неделю. Сейчас говорят, что такая, почти стерильная чистота, оказывается даже вредна. Иммунитет не вырабатывается, организм перестаёт защищаться и слабеет перед малейшим раздражителем. Но тогда чистота была залогом здоровья, без неё было никак. А с учётом того, что современных моющих средств не было и в помине, то давалась она нашим мамам ох как нелегко.
В то время Академгородок очень плотно застраивался, основной упор делался на жильё, поэтому специализированных строений было очень мало. Да, была пара-тройка магазинов, овощная палатка, с торца Дома Культуры (ДК) «Юбилейный» притулилась прачечная, но большинство остального соцкультбыта временно располагалось в квартирах на первых этажах жилых домов. Мой дом был несколько новее по проекту, поэтому там сразу же весь первый этаж был выделен под магазины, причём с отдельными входами: «Аптека», «Академкнига», «Ткани», «Одежда» и самый нами любимый – «Культтовары». В «Культтоварах» продавался полный набор детской мечты – настольные игры, фотоаппараты, лодки (резиновые и металлические), лодочные моторы, хоккейные клюшки, велосипеды, гири и гантели, а самое главное – мотоциклы. Продавщицы, которые работали в магазине были совсем не злые и разрешали нам посидеть на мотоцикле, естественно при условии, что обувь чистая и, чтобы не орать дурным голосом, изображая звук мотора и переключение передач. В такие минуты можно было бонусом представить себе, что впереди, вместо фары, смонтирован пулемёт и ты несёшься вперёд, героически и точно расстреливая фашистов.
Славкин дом был постарше, поэтому вход в подобные учреждения был прямо из подъезда. Непосредственно в его подъезде, на первом этаже располагалась телемастерская. Из-за этого на лестничной клетке постоянно пахло канифолью, кстати, достаточно приятно. Окна мастерской были слева от входа в подъезд, на одном из них стояла картонка с выгоревшей надписью: «Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры». И да, в то время это были единственные окна на которых стояли решётки. Решётки были выполнены в форме солнца, полукругом расположенного в левом нижнем углу и тянущегося в разные стороны своими лучами. Наверное, решётки стояли из-за того, что телевизоры и детали к ним в то время были очень дороги – на одну-две зарплаты не купишь, а если телевизор ещё и цветной (они тогда только-только начали появляться), весящий под семьдесят килограммов и в дорогом корпусе из ценных пород дерева, то и среднестатистической полугодовой, а то и больше, зарплаты было мало.
На всех остальных окнах решёток не было. Не было их даже на магазинах. Большие стеклянные витрины, в которых стояли одетые манекены и были разложены товары в «Промтоварном» и пирамиды консервных банок и трёхлитровых банок с соком в «Продуктовом». Даже жильцы первых этажей тогда не ставили решётки, а многие, уходя на работу оставляли окна настежь открытыми, чтобы квартира проветривалась.
Двери подъездов не запирались, домофонов не было, поэтому в подъезд всегда можно было спокойно зайти и подняться на нужный тебе этаж. К слову, не было и всякой шпаны, и бомжей, которые совсем скоро заполонили все подъезды, чердаки и подвалы и вынудили ставить решётки, замки и двери. А пока на Славкином подъезде стояла обычная дверь с пружиной. Если кто не помнит, то такие пружины ставились только на зимний период, а летом снимались слесарем из домоуправления – чтобы не стащили, и чтобы подъезд тоже проветривался. У Славки эта пружина была прибита наглухо, поэтому дверь и зимой, и летом тяжело открывалась и норовила поддать по заднице или затылку если зазеваешься на входе.
А вот в первом подъезде его дома была станция Скорой помощи. На небольшой площадке перед домом стояли «скорые» – сначала пучеглазые «Рафики» и двадцать первые «Волги» -универсалы, несколько позже – уже «Рафики» новой конструкции, такие же как начали работать на маршрутном такси за пятьдесят копеек от Центрального рынка до Академа и более современные универсалы на базе двадцать четвёртой «Волги».
Когда появлялся какой-то новый автомобиль, мы пытались рассмотреть, что у него творится в салоне. Задние стёкла у «скорых» были тонированы в белый цвет, но это ещё больше притягивало внимание к машинам. Когда в «скорую» поступал вызов, то из подъезда выходили врачи в белых халатах с чемоданчиками в руках и стетоскопами на шее. Мы разбегались в разные стороны, но потом снова разглядывали припаркованные машины.
Кстати, для тех, кто не помнит – помимо станции скорой помощи в следующем жилом доме, выходящим на Лермонтова, находились больница и поликлиника Академгородка. Позднее для них построили отдельные здания, а освободившиеся площади переоборудовали под малосемейное общежитие и библиотеку.
Глава 2. Двор
Что объединяло людей во времена, когда телевизор принимал всего два канала, а о таком понятии, как «Интернет» никто не имел никаких представлений? Правильно, двор! Дворы советских домов были своеобразными клубами по интересам. Где-то, обсуждая последние события в стране, шурша журналами, позвякивая вязальными спицами или погромыхивая шахматами, кучковались пенсионеры, все как один наряженные в дырчатые шляпы или белые платочки. Где-то, размышляя о международной политике, заботливо подстелив на лавочку газетку и разложив на ней пару сырков и ирисок «соображали» на троих мужики, при этом компания могла быть абсолютно разномастной и, без каких-либо ущемлений для всех участников, включала в себя слесаря из ЖЭКа, доктора наук и инженера-строителя. А где-то, обсуждая новые рецепты, качали колясками молодые мамаши. И то, и другое, и третье было сущим наказанием для уже более-менее взрослой и самостоятельной ребятни – шуметь нельзя, бегать тоже, а какие могут быть дворовые игры без бега и крика? Нам же в этом отношении просто сказочно повезло! Дом, в котором мы жили, был относительно новым, квартиры в нём распределялись среди научных работников —относительно молодой, работающей и занятой публики, поэтому двор практически целиком был в нашем распоряжении и без конкуренции со стороны трёх вышеперечисленных социальных групп.
Дом длинный, семиподъездный, построен по всем советским нормам и правилам, с детской площадкой, озеленением и чётко выдержанными расстояниями до соседних строений, поэтому двор был просто королевский! Кроме этого, машин было очень и очень мало, а асфальта – очень много. Поэтому для нас не существовало проблем с тем, где покататься на велике, попрыгать в классики или сыграть толпою в какую-нибудь игру. А игр было великое множество: футбол, выжигало, стопхалигало, «московские» прятки – да всего просто на перечислить!
Ещё во дворе была булочная. Пожалуй, самый любимый наш магазин. Там всегда вкусно пахло свежим хлебом. Именно свежим! Хлеб выкладывали на наклонные многоуровневые прилавки, сбоку которых обязательно была привязана двузубая вилка. Никаких полиэтиленовых пакетов – только обёрточная бумага или своя многоразовая сумка. Прежде чем выбрать булку хлеба или батон их обязательно надо было проверить на свежесть, потыкав вилкой. Если корочка хрустит, но прокалывается, а вилка не вязнет в мякише – хлеб свежий, можно брать. Самый вкусный хлеб – это сеянка. Большой, не то что нынешние, тёмно-золотистый кирпич Цена – шестнадцать копеек. Позднее хлеб подорожал и стал стоить уже двадцать копеек, а после введения при Горбачёве налога на добавленную стоимость – двадцать две.
Ну, а пока хлеб стоит шестнадцать копеек. Тебе дают двадцать, сдача – твоя. Плюс «заначка» – две копейки от прошлого похода в магазин и копейка, найденная на улице. Смешно от таких финансов? А вот вовсе нет! На такой капитал можно было приобрести бублик или рогалик – шесть или пять копеек соответственно. Или можно было взять две булочки на выбор – «школьных» (с посыпкой) или «свердловских» с изюмом.
Если хлебобулочное надоедало – можно было прогуляться до гастронома. Всего каких-то триста метров. И купить там фруктовое мороженое за шесть копеек – чаще всего лимонное. Нынешний «фруктовый лёд» даже в подмётки не годится тем бумажным стаканчикам с кисловатым содержимым, имеющим лёгкий привкус картона от упаковки.
Как-то раз, когда летним жарким вечером мы со Славкой зависали возле его подъезда, к нам подошёл солдат. В заломленной на затылок фуражке, погонами с буквами «СА» и значками на груди. В руках у солдата был букетик гвоздик и штук шесть стаканчиков лимонного мороженого.
– Пацаны, хотите мороженого?
– Хотим!
– Нате, берите. Берите всё.
– Не, нельзя. Мы Вас не знаем. Наругают нас за это.
– Вы что, думаете, я вас отравить хочу? Ну, парни, вы даёте! Берите, кому говорю, а то растает сейчас!
– Спасибо!
– Не за что! Лопайте!
Солдат поставил стаканчики с мороженым на лавку, грустно и внимательно посмотрел по сторонам, вздохнул, а потом выкинул букет в урну, с улыбкой подмигнул нам и ушёл. Сначала мы хотели выкинуть мороженое вслед за цветами. Тем более, что Славка вспомнил, как родители как-то вечером на кухне обсуждали маньяка (тогда, правда, такого слова не было), который раздаёт детям на улице отравленные конфеты. Но, справедливо решив, что мороженое – это не конфеты, всё-таки решили его попробовать. Оно и вправду уже сильно подтаяло. Видимо солдат кого-то долго ждал, но так и не дождался. Но всё равно было вкусно. Мы захомячили по три порции на брата – сначала поддевали из стаканчика деревянными палочками то что не растаяло, а потом допивали остальное. Вот так, зачастую и бывает – у кого-то драма, а у кого-то радость.
Ещё в булочной продавались всякие пряники, печенье и конфеты. Самыми популярными конфетами было разноцветное драже. Очень дешёвое и, как правило, дубовое. Драже можно было использовать в качестве патронов для рогаток и самострелов. Если такая пуля прилетала в лоб, то мало не казалось! Но это было редко, за неимением других боеприпасов, например, ранеток, рябины или зелёной черёмухи. А так эти шарики грызли, часто до мозолей сбивая себе нёбо.
Хлеб в булочную привозили рано, около шести утра. Как правило, две машины – одна с простым хлебом, другая со всякими булками и батонами. Машины, в простонародии «хлебовозки» представляли из себя ГАЗ-52 или ГАЗ-53 с тёмно-зелёной будкой, на которой большими буквами было написано «ХЛЕБ». Изнутри магазина открывалось окно и через него с грохотом выгружали полные лотки со свежим хлебом, а потом загружали пустые, после вчерашнего привоза.
Также в булочной работал Гена – Гена-Хлебник. Это был горбун, небольшого роста, не совсем хорошо разговаривавший. Гена зимой и летом ходил в одном и том-же длинном тёмно-синем рабочем халате. Он был и грузчиком, и чем-то вроде охранника в зале, и, видимо, ещё и ночным сторожем. Именно он рано утром разгружал «хлебовозки», выкладывал хлеб на прилавки, а потом чистил и складывал лотки для обратной отправки на хлебозавод.
Закончив с разгрузкой, Гена выходил на улицу через заднюю дверь булочной и вставал, раскинув руки в стороны. Тут же с соседних крыш к нему слетались голуби и воробьи. Гена удовлетворённо хмыкал и начинал кормить птиц хлебными крошками, которыми до отказа были набиты карманы его вечного всепогодного халата. Во время кормёжки Хлебник зорко следил, чтобы крошек хватило на всех. И, при необходимости, отгонял наиболее наглых едоков. Потом снова вставал раскинув руки и прикрывал глаза. Птицы, закончив свой обед не разлетались, а скучивались вокруг Гены, садились ему на плечи, раскинутые руки и прямо на голову. Счастливый он стоял так несколько минут, блаженно улыбаясь и радуясь жизни.
Потом Гена шёл в магазин и следил там за порядком. В основном приглядывал, чтобы шпана ничего не упёрла с прилавков, а такое не было редкостью. Правда нас, дворовых, Хлебник иногда баловал – делал вид, что отворачивается и смотрит куда-то в сторону, позволяя «тиснуть» полбулки сеянки или пару рогаликов. Справедливости ради, мы пользовались этим крайне редко, только после многочасового «забега» по двору и когда действительно были совсем без денег. Сдаётся мне, что у Гены не было семьи, а может быть даже и дома, и он жил в этой булочной, будучи по совместительству ещё и ночным сторожем.
По юности лет и своему скудоумию мы часто подшучивали над Геной-Хлебником. Он постоянно был предметом пренебрежительных насмешек, за что мне сейчас очень и очень стыдно. Самым невинным было постучать в окно для приёмки хлеба и убежать. Гена открывал окно, высовывал в него голову и что-то бормотал себе под нос. Это повторялось нескончаемое количество раз, до тех пор, пока горбун не выходил через заднюю дверь с метлой в руках и не пытался догнать малолетних идиотов. Иногда шутка принимала более жёсткий оборот – в открывшееся окно забрасывали наполненный водой из-под крана воздушный шарик. Придурки, что тут скажешь…
Позднее, повзрослев, мы со Славкой стали издавать свой самодельный журнал – «Альманах» про школу, учителей и одноклассников. Об этом я расскажу чуть позже. Ну, а в благодарность Гене-Хлебнику, мы сделали его одним из главных и, хочу заметить, положительных героев «Альманаха».
А ещё в булочной продавали чай. На прилавке постоянно лежал «Чай чёрный плиточный II сорт». Его не покупали даже в самые худшие времена. Максимум брали в поход, когда плитку ковыряли ножом и кидали отломившиеся куски в котелок над костром. Реже встречался «Чай грузинский. №36» в картонной коробке. Особым дефицитом он не был, но периодически из продажи исчезал. А вот настоящими хитами были «Цейлонский чай. Сорт высший» в маленьких бумажных кубиках и «Индийский чай» в коробках «со слоном». Коробки были такого же размера, как и у «Грузинского чая. №36», только другого цвета и с изображением индуса верхом на слоне с пиалой чая в вытянутой руке. Слон был одинаковый, а фон, на котором он был нарисован разным. Насколько помню, у упаковки чая было три оттенка – белый, жёлтый и оранжевый. Почему-то больше всего ценился индийский чай именно в оранжевой упаковке, хотя и другому были рады. Ну, а мне, как особому эстету, больше всего нравился Цейлонский чай.
Индийский и Цейлонский чаи были большой редкостью, поэтому даже в относительно стабильное время их отпуск в одни руки ограничивали. Привоз такого чая караулили и старались привлечь к покупке как можно больше родственников и знакомых. Караулить привоз было в общем-то несложно. Почему-то именно дефицитные сорта чая привозили только на конных подводах. Сейчас в такое верится с трудом, но тогда это было нормой. Со стороны улицы Лермонтова раздавался цокот копыт, затем подводы через дворы подъезжали к магазину. Как правило это происходило в обед, когда булочная закрывалась на перерыв (да, в советское время и в магазинах были перерывы на обед) и Гена начинал разгрузку товара. А в это время перед главным входом уже начинала выстраиваться очередь. Если все были дома, то в очередь вставали целыми семьями. В результате перед магазином собиралась приличная толпа.
Нам, пацанам, интереснее всего, конечно же были лошади. Извозчики сначала наиграно прогоняли нас прочь, но потом всё-таки разрешали погладить коней и подержаться за настоящие вожжи. Иногда Гена выносил нам по куску хлеба, чтобы мы дали его лошадям. Ну, и напоследок, мы выпрашивали по здоровенному листу фольги которой были выложены изнутри чайные ящики и считавшейся среди нас большой ценностью.
По сложившейся традиции во дворе верховодили старшие. Их было трое – братья Костя и Макс и Егор, он же Гога из пятого подъезда. «Старшаки» вели себя очень благородно. Мастерски придумывали различные игры, но при этом младших не «отпинывали», а наоборот всячески вовлекали в процесс.
Чего мы только не делали в то время! Проще сказать, чего действительно не делали. А так были и походы в лес «за дорогу», где всё было серьёзно – с дровами, кострами, котелками и настоящими супом и чаем. Зимой были снежные крепости. И не просто стенка из убранных дворником с тротуара плиток слежавшегося снега, а полноценные крепости с башнями, тоннелями и соединительными ходами. Сколько же раз прилетало защитникам этих крепостей в лоб или глаз ледышкой!
Со штабами тоже всё было не так просто. Как уже упоминалось, наш дом был построен по современному проекту, поэтому на первом этаже располагались различные магазины. В то время никто из них особо не заморачивался по поводу возврата тары. Ящики и коробки из-под товара выносились через заднюю дверь и складировались штабелем на выделенных каждому магазину площадках между жилыми подъездами и могли лежать там до бесконечности, пока не растащат. И растаскивали. Прежде всего взрослые – для разных бытовых нужд. Остальное разбирали мы – на топливо для походных костров и на строительство штабов. А штабы получались просто шикарные – в два или три этажа со множеством комнат, сторожевыми вышками и входами-выходами. Один штаб запомнился особо – его строили всем двором не меньше недели. Когда строительство закончилось, то в новом «здании» был сделан запас воды, продуктов и даже дворовой «кассы» – пригоршни медной мелочи на всякий пожарный случай.
Именно пожарный случай в результате и произошёл. В одну из летних ночей штаб облюбовала компания местных алкашей, которые, чтобы согреться, развели внутри костёр. Вроде никто не пострадал, но полыхнуло здорово. Приехали аж целых две «пожарки», которые к мерцающему пламени добавили свои синие мигалки. Всё потушили. От штаба и его запасов осталось большущее пепелище, а склады с ящиками возле магазинов обнесли металлической сеткой. За это нам всем особо прилетело от родителей и соседей – халявная тара закончилась.
Особое место занимала аптека. Обычная аптека тех лет, но место весьма и весьма притягательное.
Во-первых, там продавались аскорбинки и гематоген. Упаковка аскорбиновой кислоты в виде больших белых таблеток стоила всего шесть копеек и хватало её как раз на шестерых – каждому по две таблетки. Ревит – это такие жёлтые шарики в коричневом стеклянном пузырьке. Их было больше, но и стоили они дороже. Вдобавок они после приятной сладости наружной оболочки имели резко кислую середину и за это носили негласное название «косорыловка». Про гематоген, думаю, объяснять не стоит – крупные тёмно-бурые кубики, по вкусу что-то среднее между шоколадом и ириской.
Во-вторых, пиявки. Они стояли на аптечной стойке в больших стеклянных банках. Жуткие, увеличенные в несколько раз водой и стеклом, похожие на пришельцев с далёких, ещё не открытых планет. Кто-то говорил, что при приближении человека они могут выпрыгивать из банок и впиваться прямо в лицо, высасывая всю кровь. И если пострадавший не умирал от потери крови, то на всю жизнь оставался изуродованным. Кстати, фильм «Чужие» никто тогда ещё не видел и даже не знал, что такое могут снять. Ещё одна из легенд про пиявок – это то, что их можно наловить и сдать в туже аптеку, где тебе за них заплатят хорошие деньги. Однажды «старшаки» решили заработать и наловили трёхлитровую банку пиявок в протоке на Ангаре. В аптеке их никто не понял, денег не предложил, поэтому улов пришлось отпускать обратно в среду обитания.
В-третьих…, презервативы. Ну да – «Изделие №2». В серой бумажной упаковке с размытым розовым шрифтом. На них ходили смотреть. Смотрели в основном старшие, что-то обсуждая полушёпотом. Естественно глазели и мы, те, кто помладше. Выражаясь современными словами – это был типа, такой тренд, которому надо было всем следовать. А в остальном наши познания насчёт «резинок» заключались в том, что это на редкость полезная штука, которую почему-то не продают детям. Тем не менее периодически кто-нибудь как-то добывал эти штуки и приносил во двор. Их полезность заключалась в том, что «изделие» можно было надуть и оно становилось похожим на смешной воздушный шарик. Также, в отличие от того же шарика, если его надеть на кран, то в него входило ведро воды. Опять же, по сравнению с тем же шариком, получившаяся «капитошка» не лопалась, её втроём без опасения залить пол квартиры можно было дотащить и сбросить с балкона. Желательно с верхнего этажа.
Несмотря на заботу старших, дружбу и совместные интересы, у всего этого была одна не совсем хорошая сторона. Заключалась она в том, что в игру, да и вообще во двор не пускали чужаков. Членами общества двора считались лишь те, окна чьих домов в этот двор выходили. Хотя бы торцом или углом, а в идеале – всем фасадом, как наш «базовый» дом. Славке в этом отношении крупно не повезло. Его дом был совсем рядом, но от нашего двора закрыт ближе стоящими домами. Хоть бы одно окошко хоть как-то просматривалось с нашей территории! И в Славкином дворе была тоска – мы сами-то были ещё совсем мелкие, а остальной контингент детворы ещё меньше – сплошные «колясочники» или «бабушкины внуки». Несмотря на все мои неоднократные уговоры, пускать Славку в игру старшие наотрез отказывались – правила, они для всех правила, и, на то они и правила, чтобы их правильно выполнять. Пожалуйста, общайся с ним сколько хочешь, но в наш двор ему хода нет. Пусть балдеет у себя.



