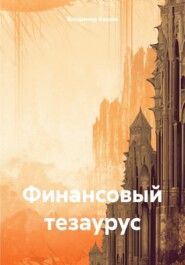скачать книгу бесплатно
Разумеется, одновременно должны компенсироваться и потери держателей ранее выпущенных дензнаков (в связи с их обесценением): или в виде возврата части золота, или в виде выдачи других товаров (например, обещанных «активов банка»), или в виде соответствующей премии в тех же дензнаках, или в виде установления соответствующей курсовой надбавки к обменному курсу между старыми и новыми деньгами, что возможно в случае, если дополнительные дензнаки выпускаются в новых, отличных от старых, образцах.
Так поступил бы в аналогичной ситуации любой честный заемщик, и, наоборот, если бы он поступил по-другому, кредиторы вправе были бы объявить его банкротом. Но так никогда не поступает государство. По крайней мере, нам о подобных чудесных явлениях пока ничего не известно.
Государство может обмануть народ, но государство не в силах обмануть экономические законы. Чем больше не обеспеченных золотом денежных знаков оно выпускает, тем более они обесцениваются – и к золоту, и ко всем остальным товарам (т. Е. при внешне тех же денежных знаках растут выраженные в этих знаках цены на золото и на все другие товары). Правда, происходит это не сразу, но в конечном счете цены всех товаров вырастают пропорционально доле излишне выпущенных дензнаков – для всех покупателей, и для государства тоже.
И все же государству удается обмануть нас. Каким же образом? За счет того, что, будучи первым покупателем товаров при выпуске излишних денежных знаков, оно покупает эти товары и услуги по старым, неизмененным ценам. В результате на долю всех остальных покупателей приходится (в расчете на весь объем денежной массы в их руках) дополнительно уменьшенное количество товаров, и они вынуждены покупать их по еще более высоким ценам, чем они могли бы быть при равномерном обесценивании всей массы дензнаков. В этом, кстати, причина особенно пагубных последствий вмешательства государства в денежную сферу. Происходит не просто «разводнение» денежной массы, но и подстегивание роста цен даже сверх ожидаемого объективно, исходя из масштабов этого «разводнения». Такой эффект возникает именно за счет злоупотребления государством своим правом «первой руки».
В условиях инфляции тот, кто дольше всех держит деньги в руках, тот и больше всех страдает от роста цен. При этом для них потери могут быть много выше, чем даже действительные темпы инфляции, поскольку «первые в очереди» ухитряются уменьшать для себя инфляцию (естественно, за счет всех последующих), покупая для себя товары еще по старым, неизмененным ценам.
Разумеется, государство никогда не соберется компенсировать те потери, которые понесли первоначальные «покупатели» государственных долговых обязательств – их золото государство давно растратило, а свою обязанность возвратить его – в одностороннем порядке отменило (в форме отказа от золотого стандарта и отмены золотого содержания денежной единицы).
Задача, таким образом, заключается в том, чтобы сейчас заставить государство вести себя в денежной сфере по тем же законам и правилам – всего лишь! – что и все «простые смертные», любые другие рыночные субъекты. Официальная экономическая наука во всех странах, включая и Россию, в один голос заявляет, что это невозможно и вредно. Однако многие свободные от государственной кормушки ученые считают по-другому.
Например, видный представитель так называемой «австрийской экономической школы» Мюррей Н. Ротбард вполне категорично утверждает:
«Когда государство начинает диктовать в денежных делах, оно неизбежно получает в свои руки жизненно важный контроль над экономикой в целом и тем самым закладывает краеугольный камень для перехода к полному социализму. Мы же видим, против сложившихся убеждений, что свободный рынок в денежной сфере (без вмешательства государства) отнюдь не означает хаос, а на самом деле является образцом порядка и эффективности».
Разумеется, официальная экономическая наука против и золотого стандарта, поскольку, как справедливо отмечает тот же М. Ротбард, «только с завершением перехода в большинстве стран к заменителям денег государство получило в свои руки абсолютный контроль над денежной сферой и монопольные права на фальшивомонетничество».
В нормальной рыночной экономике государство может богатеть только по мере роста благосостояния его народа: с увеличением доходов населения можно увеличивать и налоговые изъятия из них в пользу государства. Отсюда и жесткая завязка, которая заставляет государство и его органы заботиться об экономическом росте страны, приросте национального дохода, о защите интересов нации в международном обмене товарами и услугами.
Когда же государство и его аппарат получают возможность беспрепятственно получать средства «левыми» путями – через порчу денег, взятки, продажу госимущества и т. Д., – то, естественно, интерес к поддержке производства, помощи предпринимательству, содействию технологическому прогрессу, науке резко падает. Если такая ситуация сохраняется длительное время, то существенно и, может быть, необратимо страдает конкурентоспособность страны на мировом рынке, условия обмена ее продукции резко ухудшаются, она начинает нести убытки от участия в международной торговле.
Но если это так, то мы должны смириться с тем, что раз мы выпускаем товары, уступающие еще по качеству импортным, то мы и зарабатывать должны только в размерах, достаточных лишь для потребления своих товаров. Тогда то, что многим не по карману импортная одежда, обувь, продукты питания, товары длительного пользования, – это и будет нормально. Ненормально, что некоторым из нас импортные товары оказывается более чем доступны – и самое главное, совсем не тем, кто может производить (и производит) своим трудом товары на уровне импортных. Еще более ненормально то, что многие на свои заработки не в состоянии покупать даже и товары отечественного производства.
Последнее не только ненормально, но и вызывает законный вопрос: как это вообще может быть? Возможны только два ответа. Первый: что есть люди, которые ничего не производят или производят меньше других, но каким-то образом могут претендовать на равное потребление с теми, кто эти товары производит. И второй возможный ответ: что доход производителей кем-то так урезывается, что у них не хватает средств на то, чтобы выкупить все, что они произвели. Из последнего вытекает, что кто-то эти средства присваивает и в результате получает право потреблять товары, которые не производил.
Зная нашу действительность, мы видим, что оба ответа правильные. Во-первых, государство берет налоги, чтобы содержать чиновников. Это – нормальное явление и для других стран. Наше же отличие от других стран состоит в том, что в других странах государству не позволяется устанавливать налоги свыше тех пределов, после которых предприятия разоряются, а их работники не могут заработать себе на жизнь.
Во-вторых, часть доходов производителей присваивает сфера распределения. И это тоже нормально, и тоже присутствует в других странах. Наша же ненормальность в том, что сфера распределения накручивает такие надбавки в свою пользу, что конечном счете цены на продукты потребления вырастают до такой величины, что они становятся недоступными для тех, [кто их произвел.
Но самое интересное, что такого в принципе быть не может. Почему? Потому что источником этих надбавок должны быть «лишние» деньги, им неоткуда взяться в рамках цикла «производство – распределение – потребление».
Если сфера распределения все же захочет получать эти надбавки и установить для себя соответственно более высокую норму прибыли, чем в сфере производства, то это либо уменьшит норму прибыли в производстве (что вызовет отток капиталов в сферу распределения и соответственно сократит объемы производства); либо часть товаров просто не будет продана, и соответственно средства не вернутся в сферу производства – с тем же, что и выше, эффектом.
Таким образом, сфере распределения нечего присваивать, а если она все же и решится на такое присвоение, то, как очевидно, товарный оборот начнет затухать, вплоть до полной остановки производства. Введение возможности использования кредита в эту схему ничего не меняет; кредит позволяет лишь начинать цикл не с продажи товара, а со стадии производства, но тогда часть выручки придется отдать на погашение кредита, и затухание товарного оборота пойдет тем же образом, лишь с некоторой подвижкой во времени.
Проницательный читатель сразу скажет: «Ищите чьи-то уши!» И будет прав: уши действительно видны, да еще и преогромные! И не случайно это уши нашего старого знакомого – государства. Вновь мы поймали государство за малоприглядной ролью. На этот раз – за порчей денег.
Действительно, если правительство считает, что ему не достает налогов, разрешенных к собору парламентом, и оно втихую начинает печатать лишние деньги, то оно сможет увеличить свои расходы и приобретать для себя товары и услуги сверх норм, утвержденных парламентом. Естественно, при этом часть товаров уходит с рынка, и потребители против тех же своих денег имеют уже меньшее количество товаров, и они начинают чувствовать некоторое опустение на своих столах.
Но это – еще только полбеды.
Вторая – и большая – часть беды состоит в том, что, будучи запущенными в оборот, эти лишние деньги имеют обыкновение накапливаться в сфере распределения (в сфере производства они не нужны, поскольку настоящих ресурсов под них нет, и, представляя голый спрос, они еще должны ждать, пока эти ресурсы будут наработаны). Но как накапливаемые денежные средства, они уменьшают объем средств, расходуемых на цели потребления, что задерживает товары в сфере распределения.
Вместе с тем, лишние деньги в конечном счете вызывают рост цен, а в ожидании роста цен у сферы распределения возникают стимулы придерживать товары или повышать на них цены «с запасом», сверх действительных темпов инфляции. Это, в свою очередь, подстегивает рост цен и еще более увеличивает долю средств, задерживаемых в сфере распределения.
В западном мире этому саморазрушительному процессу есть естественное ограничение – международная торговля. Как только местные «распределители»-торговцы зарвутся со своими ценовыми экспериментами и сразу увеличится импорт более дешевых импортных товаров, население будет использовать свои поездки за рубеж для приобретения там товаров. В России поездки за рубеж еще достаточно дороги, чтобы частный привоз товаров мог быстро сбавить цены на внутреннем рынке, тем не менее и у нас эти процессы начинают оказывать свое воздействие.
Таким образом, рост цен у нас создает государство, когда оно бесконечно начинает печатать и запускать в обращение дополнительные денежные знаки. А то, что некоторые из наиболее расторопных наших сограждан (например, «челноки» и мелкие лавочники) этой ситуацией пользуются, и не без выгоды для себя, лишь свидетельствует о наличии у них качеств, отсутствующих у большей части населения.
Можно ли сейчас вернуться к золотым деньгам?
От государственной системы фальсификации денежных знаков уберечься нельзя, хотя уменьшить свои потери по этим причинам можно – научившись правильно управлять своими денежными ресурсами и инвестировать их в надежные и приносящие доход рыночные стоимости (в дальнейшем мы остановимся на этом более подробно). Но нередко приходится сталкиваться и с частной инициативой в этой сфере, т. Е. подделкой наличных денежных знаков разных государств частными лица-ми. Самое надежное, конечно, было бы вернуться к истинным деньгам и восстановить золотой стандарт, но, к сожалению, в индивидуальном порядке решить этот вопрос невозможно. Для этого необходимо, чтобы правительства отказались от практикуемой ими дискриминации золота как денежного товара, разрешили принимать платежи золотом и принимать золото на вклады в банки.
Пока же эта дискриминация сохраняется, и в связи с этим вложения в золото, с точки зрения частного инвестора, страдают двумя серьезными недостатками: во-первых, золото не приносит проценты в случае помещения его на хранение в банк на депозиты; во-вторых, хранение (и охрана) золота связано с довольно высокими расходами для его владельца. С учетом этих обстоятельств золото сейчас обычно оказывается менее выгодным объектом инвестиций, чем государственные или частные долговые обязательства.
Вместе с тем, поскольку золото является довольно популярным биржевым товаром, то операции с куплей-продажей золота могут приносить высокие прибыли – если верно угадать рыночную конъюнктуру. Так, после отмены официальной цены на золото, составлявшей 35—38 долл. США за тройскую унцию (31,1 г), его рыночная цена примерно за пятнадцать лет взметнулась до 840 долл. США за т.у. (1980), и, значит, тот, кто вкладывал деньги в золото в период 1970—1980 гг., здорово выиграл. Правда, вскоре после этого цены на золото стали резко падать – до 280 долл. США за т.у. в 1985 г., но затем положение золота восстановилось и сейчас оно торгуется на уровне 1 200—1 300 долл. США за т.у.
Что же касается более дальней перспективы, то решающей здесь остается позиция банков и властей: как только будет разрешено принимать золото в банковские депозиты (под процент) и выпускать долговые обязательства с золотой оговоркой, привлекательность инвестиций в золото резко возрастет.
Хотя государственные власти во всем мире своей политикой «штрафуют» инвестиции населения в золото, сами они по отношению к золоту занимают совершенно другую позицию. Центральные банки промышленно развитых стран в своих хранилищах стабильно держат примерно треть всех мировых запасов золота (около 35 тыс. т), несмотря на то, что они ежегодно теряют на этом доход примерно в 15 млрд. долл. (который они могли бы получить, вложив соответствующие суммы в самые надежные облигации или векселя, приносящие сейчас порядка 4—6% годовых).
Правда, некоторые страны в этой ситуации решили продать часть своих золотых запасов (Бельгия, Голландия, Португалия), но крупнейшие в мире держатели золота (США, Германия, Швейцария, Франция) от такого искушения стойко воздерживаются. Швейцария, например, которая намного опережает все другие страны по запасам золота на душу населения, сохраняет их в неприкосновенности, хотя только ее затраты на хранение золота составляют более 500 долл. Ежегодно на каждого швейцарского гражданина. Китай, располагающий на сегодня крупнейшими валютными резервами в мире, выражаемыми в долларовых активов, также без особой рекламы начинает переводит эти активы в золото.
США же проводят еще более ловкую политику: даже продавая золото, они постоянно увеличивают его количество в своих хранилищах. Действительно, в 1945 г. Правительству США принадлежало 18 тыс. т золота, а в последующее время США около 10 тыс. т продали другим странам. В результате этого собственный золотой запас США уменьшился до 8,2 тыс. т. – однако в то же время общее количество золота в их хранилищах за это же время увеличилось до 20 тыс. т! Каким же образом? Самым простым путем: продавая золото, американцы не передают его покупателям, а оставляют «на хранение» у себя в США (сейчас в США хранятся золотые запасы примерно 70 стран мира).
Следует подчеркнуть, что для инвестиционных целей, равно как и для спекуляций на биржевом рынке, годится только золото, выпускаемое в стандартизированных формах: в слитках, в пластинах и в монетах современной чеканки (не имеющих нумизматической ценности). Слитки выпускают весом от 350 до 430 тройских унций (примерно 12 кг) и с чистотой металла не ниже 995 пробы. Пластины выпускаются с той же чистотой металла и весом, исчисляемым в унциях или в граммах. Слитки и пластины, обращающиеся в биржевой торговле, должны иметь маркировку одного из сертифицированных золото-плавильных заводов или банков (в основном швейцарских), которые имеют право отливать слитки и пластины со своей маркировкой. Золотые монеты имеют номинал (в долларах, рэндах, фунтах, рублях и т. Д.), но продаются исключительно по весу и содержанию чистого металла (с небольшой надбавкой за чеканку).
Нестандартизованное золото, равно как и золото в изделиях, в ювелирных украшениях и т. Д., предметом инвестирования быть не может и не должно. Достаточно указать, что в ювелирных украшениях работа мастера может составлять до 90% их цены, а эта надбавка к цене чистого металла слишком сильно зависит от вкусов, моды, национальных обычаев и привычек, чтобы служить даже слабой защитой вашим сбережениям.
Нестандартизованное золото не имеет рынка, и поскольку люди продают золотые изделия обычно только в тяжелых обстоятельствах, такие продажи редко обходятся без значительных убытков. Помните, на продаже золотых изделий наживаются только ювелиры – это их бизнес, и вам с ними конкурировать бессмысленно и бесполезно.
В России продажа золота как биржевого товара юридическим и физическим лицам была разрешена в разовом порядке постановлением Совета Министров № 980 от 25 сентября 1993 г. «О продаже золота путем выпуска золотых сертификатов 1993 г.» «Золотые сертификаты» представляли собой долговую расписку правительства, удостоверяющую право ее предъявителя на 10 кг золота 9,9999 пробы, которые он может получить через год после выпуска сертификатов (в сентябре 1994 г.). Поскольку продавался такой «золотой сертификат» по цене золота на Лондонской бирже, пересчитанной в рубли по курсу Центробанка на дату эмиссии, то фактически речь шла об игре на мировой цене золота: если она за предстоящий год повысилась бы, то инвестор потерпел бы соответствующие убытки.
Кроме того, на вложенные инвестором средства ежеквартально начислялся доход, привязанный к процентной ставке Лондонского межбанковского рынка (ЛИБОР) – фактический процент на золотой депозит (правда, привязанный не к весовому количеству золота, а к его цене, выраженной в долларах США). Вместе с тем конечные покупатели золотых сертификатов должны были еще уплатить комиссионные банку, через который первоначально распространялись эти сертификаты Поскольку в установлении размера своих комиссионных или надбавок к продажной цене золотых сертификатов банкам была предоставлена определенная свобода, то окончательный размер дохода для отдельных инвесторов мог существенно различаться.
Особая ценность золотых сертификатов, кроме их доходности, состоит еще и в том, что они могут использоваться в расчетах. Иначе говоря, такие сертификаты могут выступать в расчетах в качестве золотых, т. Е. истинных, денег.
Вместе с тем надежность золотых сертификатов с точки зрения инвестора вовсе не выглядит абсолютной. Во-первых, у сертификатов остается тот же недостаток, что и у золота, которое сейчас является биржевым товаром со всеми вытекающими отсюда последствиями (резкие колебания цены, подверженность спекулятивным воздействиям и т. Д.). Во-вторых, цена сертификатов для конечных инвесторов в конечном счете зависит от банков, которые своими перепродажными операциями и через размер устанавливаемых надбавок могут существенно влиять на уровень конечных доходов, получаемых инвесторами. В-третьих, в расчет следует принимать и налоги, которые в России, например, меняются слишком часто (а избежать их никак нельзя, поскольку все перепродажи сертификатов подлежат регистрации с указанием имен владельцев).
Настоящие деньги для настоящей экономики
Таким образом, основная проблема экономического развития в западных странах состоит в том, что в них усилиями как раз самого государства уничтожаются самые основы рыночной экономики: деньги – выступающие как институциональное средство соизмерения трудовых усилий людей и «капитал» – бесспорно ключевой институт частнокапиталистической системы производства.
Действительно, в современных условиях, когда государство практически во всех странах (с исключением таких стран, как Китай и некоторые другие) держит курс на проведение инфляционистской денежной политики (с целью взимания скрытого эмиссионного налога) и поддержание высоких ставок налогообложения (по совокупности всех применяемых налогов), то капитал в своей денежной форме уже не только не воспроизводится, но даже и не сохраняется.
Так, процентные ставки по вкладам срочным вкладам почти никогда не покрывают потери капитала по причине инфляции, по текущим счетам предприниматели имеют чистую потерю капитала (и значительную – если еще учесть банковские комиссии «за ведение счета»), и даже собственники банковского капитала (акционеры банков) не получают достаточных доходов, чтобы компенсировать обесценение его реальной стоимости.
Соответственно и накопление денег как капитала – первичное, когда вообще только складывался капиталистический строй, и текущее, обеспечивающее нормальный процесс капиталистического воспроизводства (финансирование в порядке самонакопления капитала), и накопление капитала в его национальной денежной форме (денежные сбережения населения) сейчас в развитых странах выведены за пределы здравого смысла, а для финансирования экономического роста в современных условиях принято использовать инструменты внешнего (к самому процессу воспроизводства капитала) финансирования – банковские кредиты и долговые оборотные инструменты, государственные инвестиции и льготы по налогам, внешние займы, иностранные инвестиции, и т.д.
Но если даже предположить, что все эти внешние дополнительные вливания в процесс воспроизводства покрывают или перекрывают потери реальной стоимости капиталов, уже задействованных в национальном воспроизводственном процессе, то все равно этот арифметический (количественный) баланс не в состоянии качественные потери в мотивации собственников денежного капитала. Для последних становится все более очевидным, что, действуя в рамках национального рынка и оставляя свой капитал внутри процесса национального производства, они оказываются не в состоянии сохранить его прежнюю стоимость от инфляционно-налоговых наездов своего же государства.
И тогда они убеждаются, что, чтобы только сохранить реальную стоимость своего капитала, они должны либо прятать его от государства (например, через укрытие получаемых на свой капитал доходов от налогообложение), либо запускать его, частично или полностью, в каналы международных финансовых трансакций и фондовых спекуляций. Но действуя таким образом, собственники капитала из капиталистов-предпринимателей превращаются в капиталистов-спекулянтов и, соответственно, промышленные капиталы в массовом порядке трансформируются к капиталы финансовые спекулятивные, паразитические – по отношению к сектору реального, материального производства.
А если такой процесс действительно «пошел» (в чем уже нельзя сомневаться, имея перед глазами картину разворачивающегося всеобщего финансового кризиса), то резонно поставить вопрос об изменении самого существа существующей в развитых странах экономической системы – ведь очевидно, что система, основанная на обороте промышленного капитала, совсем не то, что система, в которой преимуществом пользуется оборот финансового, фондового, фиктивного, виртуального капитала. В современной экономической науке пока только очень немногие ученые осмеливаются так ставить вопрос и из них еще очень немногие – пробуют ответить на него (например, последователи так называемой австрийской школы). Но у государственных властей в развитых странах эти ученые совсем не в почете, они почти не представлены в ведущих исследовательских центрах и на кафедрах известных университетов, их труды малоизвестны, а в России они фактически под запретом.
И только в последнее время ситуация начинает меняться: так, в Германии уже некоторые довольно известные ученые заговорили об угрозе «налогового социализма», а президент Франции Н. Саркози, указывая на угрозу распространения банковского кризиса, прямо потребовал принять действенные меры по ограничению «финансового капитализма».
Действительно, «игры в деньги» – спекуляции на росте акций (фиктивного капитала), биржевые операции с несуществующими реально вещами (сделки на рост или падение цен товаров, валют, ценных бумаг), непомерное разрастание рынка деривативов – способствуют перетеканию капиталов в «игровую зону», за счет финансового «обескровливания» сферы реального производства.
И если все производства необходимых потребительских товаров переместится в страны Азии и Латинской Америки (а к этому все и идет), то возникает неизбежный вопрос – в обмен на какие полезные вещи эти товары будут поставляться потребителям в странах, увеченных строительством «постиндустриальной экономики»? В обмен за услуги банковско-финансового сектора, туризма, шоу-бизнеса, за предоставление патентов и авторских прав? Возможно, но наивно верить, что условия обмена необходимых для жизни товаров, произведенных «Востоком», на виртуальные (во многом) услуги, предлагаемые «Западом», сохранятся в нынешних пропорциях и не будут решительно изменены в пользу первого.
Таким образом, отказ «Запада» от сложившихся в условиях всеобщего товарно-денежного производства и обращения финансово-экономических моделей семьи, предприятия, капитала – при том, что на «Восток» эти тенденции не распространяются – чреват превращением «Запада» (составляющих его стран и населяющих его народов) в некоторого нового мирового иждивенца, который будет зависеть уже не только и не столько от поставок сырья и энергоносителей, сколько от снабжения всей гаммой товаров и вообще предметов готовой продукции.
При этом следует подчеркнуть, что основная проблема современных финансовых отношений состоит в том, что применяемые «мировые деньги» приватизированы частным банковским капиталом США, а национальные деньги других стран полностью зависят от произвольных действий политиков и государственных банкиров этих стран. Между тем, вся современная система капиталистического товарного хозяйства строилась и развивалась на основе рыночных инструментов и средств обращения (золото, серебро, коммерческие векселя, банкноты частных банков, и т.д.), независимых от публичной власти любого – национального или международного – уровня.
Иначе говоря, весь процесс общественного производства осуществлялся на строго товарной, возмездной основе и деньги – как товарный эквивалент стоимости – принадлежали всем (или – никому, что тоже самое) и никому не было позволено ни портить деньги, ни присваивать себе монопольные права на выпуск денег (в обороте, особенно в расчетах между банками или государствами, в равной степени могли использовать как чеканенные кем-то монеты, так и просто весовые количества денежного металла).
Действительно, время от времени этот процесс встречался с кризисами – кризисами перепроизводства и эти кризисы, при их крайнем обострении, периодически приводили к мировым войнам. После появления атомного оружия экономический смысл военных переделов мира пропал, но равновесие между растущими производительными силами и ограниченным покупательным спросом населения удавалось поддерживать за счет гонки вооружений и иных подрывных мероприятий политики холодной войны.
При этом государственный спрос искусственно поддерживался и мобилизовывался за счет роста государственного долга – эмиссии бумажных денег и срочных долговых государственных обязательств. И фактически государство, вместо стимулирования роста производства реальных стоимостей – товаров и капиталов, перешло к стимулированию роста долгов – как собственных, так и населения, приучаемого потреблять больше, чем производить.
Однако, как показывают события последнего времени, накопление долгов не решает проблемы перепроизводства товаров, но просто заменяет кризисы производства на кризисы финансовой системы.
В конечном счете, монополия государства на выпуск заменителей денег (и последующий запрет на использование в расчетах настоящих денег) в современных условиях фактически превратилась в монополию на порчу денег и, соответственно, весь процесс товарного производства оказался в зависимости от добросовестности и порядочности государственной власти, от того, насколько ее фискальные аппетиты (стремление получать дополнительные доходы от эмиссии своих денежных знаков) могут быть сдержаны процедурами демократического устройства современного общества. Как показывает опыт, практически во всех странах фискальные интересы власти фатально преобладают. Национальные валюты становятся объектом регулирования, а точнее – манипулирования со стороны государственных властей, как на внутринациональном, так и на международном уровне.
Претензии монетаристов на регулирование экономического развития методами накачки «деньгами» товарного оборота, основанные на якобы «острой потребности» экономики в «дополнительной ликвидности», представляют собой редкий случай полного отрыва от реальной действительности. На самом деле, современная экономика абсолютно не нуждается в деньгах как средстве обращения,2 но претерпевает неисчислимые трудности из-за отсутствия денег как универсальной меры стоимости.
Действительно, представим себе случай с двумя экономическими субъектами (производителями), которые договорились обменивать один трактор на 100 т зерна. Нужны ли им для такого обмена деньги как средство обращения? Очевидно, что нет. Далее, эти субъекты договорились на следующий год произвести и обменять в той же пропорции, соответственно, 4 трактора и 400 т зерна. И опять у них нет нужды в какой-либо «ликвидности». Предположим далее, что к этому обороту присоединяются другие экономические агенты – производители металлов, химудобрений, и т.д. И опять же для обеспечения всех расчетов между ними никакой «ликвидности» не требуется. Нужно лишь, чтобы некоторое третье лицо (банк или любой простой учетчик) вело записи взаимных расчетов между этими экономическими субъектами в некоторых единых расчетных единицах (подойдет, например, и зерно, и трактор).
Возьмем далее ситуацию, когда расчеты осуществляются не одномоментно, а с отсрочкой (на условиях кредитования). Если такая отсрочка имеет место по взаимному согласию сторон, то опять никакой нужды в дополнительной «ликвидности» не возникает – просто одно лицо воздерживается от потребления продукта, производимого другим лицом в течение согласованного периода времени (производитель трактора не ест хлеб, обходясь картофелем, или производитель зерна пока пашет землю на волах).
Но острая нужда в «ликвидности» возникает тогда, когда некоторый ловкач решает просто пользоваться продуктами труда других лиц, не оплачивая их никакими своими товарами (в порядка принудительного использования кредита других лиц в свою пользу – как это и практикует сейчас американское правительство). В этом случае, действительно, производитель не оплаченного нашим ловкачом товара испытывает серьезные трудности, поскольку ему нечем оплачивать затраты на производство новой партии товара.
И он должен либо остановить производство – если у него есть какие-то возможности протянуть это время на старых накоплениях, либо обратиться за кредитом – например, в банк. И если банк согласится предоставить ему кредит, то здесь действительно образуется дополнительная «ликвидность» – некоторое количество денежных единиц, не обеспеченных новой товарной массой.
А поскольку эти дополнительные денежные единицы выводятся на прежний, не увеличенный товарный рынок, то товарная «ценность» всех обслуживающих расчеты денежных единиц уменьшается пропорционально доле излишне выпущенных денежных единиц. Т.е, происходит обесценение (инфляция) «денег», которое невозможно при обращении, основанном на настоящих, товарных деньгах (золото входит и выходит из обращения, но его «ценность» в отношении всех других товаров не меняется – если только случается, по каким-то причинам, резкий прирост весовой массы золота на данном товарном рынке).
Основой всякого развития и экономического роста вообще являются накопления населения и реализация долгосрочных инвестиционных проектов, но при неопределенной будущей «ценности» денежной единицы (а точнее – при большой уверенности в падении ее «ценности», но и при сохранении неуверенности в отношении скорости этого падения) стимулы к накоплению таких «денег» резко снижаются, а окупаемость вложений в «длинные» проекты не может быть просчитана даже приблизительно, что фактически исключает возможность использования на эти цели банковских или межгосударственных кредитов.
Поэтому всякое манипулирование товарной стоимостью денежных единиц и создание возможностей для накопления непогашаемых денежных долгов как во внутринациональном обороте, так и в международных отношениях – что стало отличительной особенностью современного механизма государственного регулирования экономики – закономерно создает предпосылки для сползания в хронические финансовые кризисы, разрушительно отражающиеся на экономическом развитии.
Единственной возможностью устранения этой угрозы является возврат к товарной основе денег и переход к такому механизму регулирования товарных отношений, который бы исключал в принципе возможность для отдельных экономических субъектов и государств существовать за счет накопления долгов перед другими субъектами хозяйственного оборота. При возвращении к настоящим деньгам открывается возможность и устранения отношений «процентного закабаления», которые сейчас сложились между финансовым сектором и сферой реального производства в странах Запада.
Действительно, при современных условиях значительная часть доходов и прибылей, реализуемых в сфере производства, перераспределяется через секторы финансово-банковского и фондового рынка (практически все крупные состояния сейчас формируются именно с использованием этих механизмов) и затем, за высокие проценты и на весьма обременительных условиях, предлагается участникам товарного производства. При этом инициируемые правительствами инфляционные процессы создают «лихорадку» на денежных рынках – деньги должные немедленно вкладываться в какие-то высокопроцентные операции, чтобы только сохранить свою стоимость.
При введении настоящих денег, представляющих собой реальные материальные ценности – золото, другие ценные металлы, нефть, и т.д., необходимость в такой лихорадочной деятельности отпадает. Более того, появляется реальная возможность накаливать капиталы (и ссужать их денежный эквивалент) без процентов (или под минимальные, воспринимаемые рынком 1 %, 2 %, 3 %).
Действительно, если обратить внимание на феномен роста производительности труда – и, соответственно, на издержки производства разных обращающихся на рынке товаров – то мы увидим, что этот рост наиболее велик и заметен в производстве высокотехнологичных товаров, в стоимости которых преобладают затраты высококвалифицированного труда, накопленных знаний, новых основных капитальных активов, и т.д.
А поскольку используемые в виде денег достаточно редкие природные материалы по своим трудозатратам практически постоянны, то выражаемые в них цены всех остальных товаров имеют тенденцию к постоянному снижению. И из этого вытекает то, что только простое хранение денег (даже без начисления на них процентов) дает постоянное накопление богатства, выражаемое в росте массы полезных товаров, которые могут быть приобретены на сохраненные деньги.
И, самое главное, при возврате к настоящим деньгам резко сокращаются возможности накопления безвозвратных долгов (государства и частных лиц, включая частные банки) и формируемых на их основе фиктивных капиталов: во-первых, у государства отнимается возможность бесконтрольной эмиссии бумажных денег, и, во-вторых, долговые обязательства любых частных лиц и институтов, при выпуске их на свободный рынок, будут пристально тестироваться рынком на предмет их обеспечения реальными активами, находящимися в собственности этих лиц и институтов.
Таким образом, с одной стороны, резко урезаются возможности государства (и любых частных лиц) выпускать в обращение фиктивные долговые «деньги», и, с другой стороны, создается полная свобода для участников рынка (а не финансовых «игроков») «делать» настоящие деньги (золото, другие металлы, нефть, и т.д.) и формировать настоящие, реальные денежные капиталы. При этом следует подчеркнуть, что, во-первых, для решения этого вопроса нет необходимости искать какого-то «консенсуса» всех или только ведущих стран мира (на самом деле, это может сделать и одна страна, располагающая достаточным весом в мировых товарных отношениях), и, во-вторых, из всех стран мира именно Россия, обладающая наибольшими природными богатствами, находится в наиболее выгодном положении и может выиграть больше других стран от ликвидации системы финансового капитализма. Заинтересованность в этом сейчас проявляет и Китай, который уже реально ощущает угрозу обесценения своих накопляемых – пока еще – в долларах США валютных резервов.
Пока же нынешний финансовый механизм рыночной экономики можно охарактеризовать как основанный на запрете настоящих денег, на замене их долговыми инструменты (к исключительной выгоде эмитентов этих инструментов), на подавлении реального производительного капитала и замене его капиталом фиктивным, спекулятивным, на решении ключевого вопроса – кризиса перепроизводства – способами накопления долгов (а не более разумного перераспределения богатств и доходов). Какое-то время эти средства работали – но всему приходит конец.
И поэтому сейчас уместно еще раз задать вопрос: а может ли вообще современный рыночный механизм действовать без денег? Без денег не как средства обращения – очевидно, что может и вполне успешно, но без денег как всеобщего и независимого от какой-либо власти эквивалента стоимости, соизмерителя стоимости вещей, объективного измерителя богатства – людей, компаний, народов, государств? Если ответить на этот вопрос правильно, то становится очевидной и прямая заинтересованность России в реализации решения, вытекающего из такого ответа на него.
Обеспечив возврат к настоящим деньгам, далее необходимо будет радикально пересмотреть роль финансового сектора – с точки зрения его воздействия (негативного или позитивного) на социально-экономическое развитие страны и решительно изменить налоговую политику – в сторону стимулирования самофинансирования, самовыживания и саморазвития всех способных к этому частных хозяйственных структур и отдельных работников и предпринимателей.
В портфеле частного инвестора роль золота как интернациональной стоимости сейчас могут выполнять наиболее надежде иностранные валюты, используемые в международных расчетах.
В первую очередь это доллары США и евро. Японские иены швейцарские франки, возможно, не менее надежны, но их международный оборот невелик, и в России они малодоступны. Фунты стерлингов не очень устойчивы в своем курсе, и их держателю пришлось бы постоянно следить за ситуацией на валютных рыках.
Иностранную валюту можно держать в наличных или на счете в банке. В последнем случае есть риск столкнуться с возможным введением валютных ограничений или замораживанием счета (как в случае с Внешэкономбанком). Имея дело с наличными, вы рискуете нарваться на фальшивку.
Как обезопасить себя от мошенничества при получении иностранной валюты (российские деньги вы можете проверить в любом российском банке)?
Существует целый ряд приемов и способов отличить подлинные банкноты от фальшивых, они описаны в специальных изданиях, и они гарантируют абсолютно безошибочный результат. Но для проведения таких полных испытаний подлинность» требуются специальные технические средства и препараты, которые, разумеется, в повседневной жизни с собой не носит.
Как обезопасить себя в этих ситуациях? Если нет возможности проверить банкноты в банке или в специально оборудованной меняльной конторе, то мы советуем руководствоваться самыми несложными правилами, которые тем не менее гарантированно уберегут вас от неприятностей в 99 из 100 случаев.
Правило первое – «Проверьте водяные знаки». На банкнотах США, Великобритании, Швейцарии водяные знаки повторяют изображение известных деятелей, чьи портреты напечатаны на этих же банкнотах типографическим способом.
Правило второе – «Проверьте спецэффекты бумажной основы». Для долларов США это впрессованные в бумагу красные и синие шелковые волокна, которые можно поддеть иголкой без повреждения бумаги. Для фунтов стерлингов (Великобритания) и евро нового образца характерна впрессованная металлическая полоска серебристого цвета, которая прошивает бумагу.
Следуя этим двум правилам, вы надежно защитите себя от основной массы подделок, выполненных не на государственной «банкнотной» бумаге, которую достать практически невозможно, а изготовить кустарным способом чрезвычайно дорого.
От «перебивки» номиналов на подлинных банкнотах вас защитит: Правило третье – «Запомните портреты».
Вам не нужно запоминать портреты всех лиц на всех банкнотах; вполне достаточно запомнить соответствия портретов и номиналов только тех банкнот, которые наиболее часто служат предметом фальсификации.
На всех современных банкнотах Великобритании при обязательном присутствии двух женщин (царствующей королевы Елизаветы II и стилизованного изображения Британии) отличительным признаком служат следующие личности: для 10 фунтов – медсестра Флоранс Найтингейл, для 20 фунтов – В. Шекспир и для 50 фунтов – архитектор Кристофер Рен.
Доллары США легко запоминаются с президентами: «Хэм» (Гамильтон) – банкнота в ] 0 долларов; «Джек» (Джексон) – 20 долларов; «Грант» – 20 долларов и «Фрэнк» (Франклин) – 100 долларов. Не для запоминания, а просто для сведения (вряд ли вам повезет с ними встретиться): больше всего американцы «ценят» Чейза (другого, не автора детективов) – банкнота в 10 000 долларов, и Мэдисона – банкнота в 5000 долларов.
Рекомендуем также запомнить лица, изображенные на самых низкономинальных банкнотах, которые обычно и используются мошенниками для «поднятия» их денежного ранга: Джордж Вашингтон (банкнота в 1 доллар); Исаак Ньютон (1 фунт стерлингов).
Помните эти правила, и вы будете надежно защищены от мошенничества в магазинах и киосках (на улицах лучше вообще ни в какие денежные сделки не вступать – если вас и не надуют при сделке, то, вполне вероятно, ограбят тут же после нее). Если вам часто приходится иметь дело с иностранными банкнотами, то мы рекомендуем вам, для полной надежности, всегда иметь при себе для сравнения по мелкой купюре из банкнот каждой страны. Подавляющее большинство фальшивок сразу обнаруживается при сравнении с образцом подлинной банкноты; если у вас возникает такое сомнение, возьмите обе банкноты (эталонную и проверяемую) в разные руки и закройте глаза: если есть различия, вы обязательно должны их почувствовать, потирая банкноты на ощупь.
Итак, как мы видим, деньги сейчас делают многие и делают самым разными путями. В основном это мошенничество – или в частном порядке, на свой страх и риск, или под прикрытием закона.
Большинство из нас далеки от этих занятий, но знать о них нужно, чтобы суметь обезопасить себя от их последствий. Мы можем зарабатывать деньги только самым обычном образом: в обмен на свой труд, услуги, товары, т. Е. в ходе своей обычной профессиональной и трудовой деятельности.
Но после того как мы заработали денег, перед нами встает не менее сложная задача: как сохранить и преумножить наши деньги. Рыночная экономика открывает для этого массу возможностей, и, если правильно и разумно их использовать, то можно добиться, чтобы деньги стали расти к нашей выгоде, сами по себе. При удачном размещении денежных средств можно не только обезопасить себя «на черный день», но и обеспечить себе постоянные источники достойного существования после прекращения активной трудовой и профессиональной деятельности по тем или иным причинам.
Другими словами, деньги можно превратить в капитал – самовозрастающую независимо от вас стоимость, и этот капитал может стать надежной основой будущего благополучия для вас и вашей семьи.
Общие принципы и правила планирования и организации деятельности по обеспечению «финансовой независимости».
Почему время – деньги.
Когда вы выбрали цели и знаете пути их достижения, критически важно найти наиболее эффективные способы и методы движения по этим путям.
Давно известна формула «время – деньги» и действительно, организованность, целенаправленность и эффективность ваших действий – основа любой финансовой политики, на уровне как государства, так и отдельного предприятия, каждого гражданина.