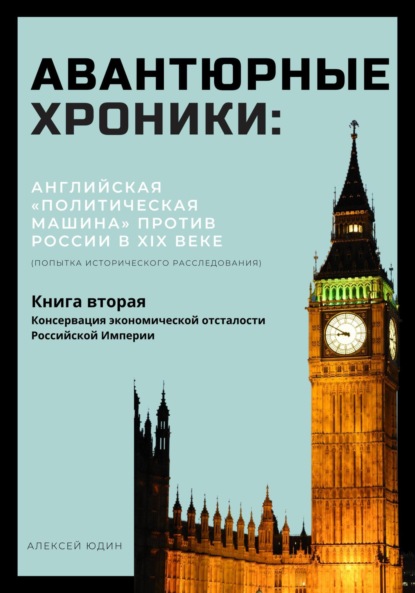
Полная версия:
Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке
Франция практически лишилась своих завоеваний в Индии, сохранив ограниченные права торговли на некоторых территориях. Тем не менее ее силы и влияние не были окончательно поколеблены. У французов оставались многочисленные заморские территории, составлявшие важный источник доходов для поддержания военного равновесия на суше и на море. Кроме того, вся Европа пришла в движение, распадались старые и создавались новые союзы, даже старинная вражда Австрии и Франции уже не казалась непреодолимым препятствием к взаимному отстаиванию схожих интересов. Все было готово к тому, что впоследствии назовут «дипломатической революцией».
В середине 1750-х годов между Англией и Францией начались вооруженные инциденты в Северной Америке. Местные французские губернаторы прилагали усилия к тому, чтобы соединить Луизиану с Канадой, бассейн Миссисипи с бассейном реки Святого Лаврентия. Все эти территории лежали к западу от тринадцати британских колоний, которые вытянулись вдоль атлантического побережья и в результате усилий французов рисковали оказаться отрезанными от внутренних областей американского континента. К тому же французы без объявления войны захватили форт, который английские поселенцы строили на слиянии рек Мононгахилы и Аллегейни в долине Огайо, и построили там собственный форт Дюкен. Однако соотношение сил было не в пользу французов. В тринадцати английских колониях проживало более миллиона человек. Французов было гораздо меньше. В Канаде численность французских колонистов едва превышала 50 тысяч человек. На океанских просторах тоже было неспокойно. Английские эскадры охотились за французскими торговыми судами, обыскивали их, забирали грузы. Франция, долгое время ограничивавшаяся протестами, стала прибегать к использованию силы, постепенно восстанавливала свой военный флот, который вновь представлял реальную угрозу английскому господству в океанах. Стало очевидным, что избежать новой войны не удастся, но на этот раз английские цели не имели ничего общего с европейскими делами.
Питт Старший
В 1756 году госсекретарем южного департамента Форин Офиса был назначен Уильям Питт, тогда его еще не называли Старшим. В ведении южного департамента находились английские заморские колонии, и поэтому назначение было знаковым. Уильям Питт был внуком «алмазного» Питта, губернатора Мадраса и одного из руководителей Ост-Индской компании. «Алмазный» Питт нажил в Индии баснословное состояние, но внуку мало что досталось из этого богатства. В качестве наследства Уильям Питт получил навязчивую идею – создать огромную заокеанскую империю под эгидой английской короны. Впрочем, в этом не было ничего мистического или иррационального. Цель Питта была вполне прагматичной: в Англии уже начиналась промышленная революция, английские промышленники нуждались в капиталах и дешевом сырье, а английские купцы в рынках сбыта. Не стоит забывать, что Ост-Индская компания была тесно связана с Сити и ее ливрейными компаниями.
В наследство Питту досталось также поместье в оном из «гнилых местечек», где имеющих право голоса насчитывалось всего несколько человек, поэтому избрание в Палату общин не представляло для него большой проблемы. Уже в 1735 году в возрасте 27 лет Питт получил депутатское место в Палате общин. Формально Питт примыкал в парламенте к партии вигов, но при этом входил в группу так называемых «патриотов», противников вигского премьера Уолпола, не желавшего, как уже отмечалось, ввязываться в военные конфликты. Питт немедленно включился в борьбу с Уолполом. Его блестящие выступления, убедительная аргументация и глубокое знание вопросов, исходившая от него огромная энергия, глубочайшая убежденность в необходимости расширения английского «жизненного пространства» создали в Палате общин настоящую колониальную партию. Именно под влиянием этой партии и лично Питта Уолпол был вынужден вступить в войну с Испанией, о чем было написано выше, а в 1742 году – подал в отставку с поста премьер-министра. Тем не менее до самой своей смерти в 1745 году он продолжал руководить вигами и пользовался доверием короля Георга II. Только в 1746 году, когда Уолпола уже не было в живых, король согласился дать Питту место казначея вооруженных сил и включить его в состав Тайного совета, хотя и не в кабинет министров.
На этому посту Питт продемонстрировал высокую преданность общественным интересам и удивительную по тем временам честность и неподкупность. Питт отверг обычную, не вызывавшую особых возражений практику прежних казначеев присваивать проценты с казначейских сумм и получать комиссию с иностранных субсидий. К тому же он подчеркивал свою принадлежность к простым людям. Это произвело глубокое впечатление и на короля, и на общество в целом. Общественная поддержка Питта была беспрецедентна, что нашло отражение в полученном им прозвище – «великий простолюдин».
Как утверждают некоторые историки, несмотря на относительно незначительный пост Питт оказывал существенное влияние на формирование внешней политики Великобритании. Есть мнение, что между 1746 и 1748 годами он был едва ли не главным советником по вопросам военной и дипломатической линии у Генри Пелэма, который в то время занимал пост премьер-министра. Именно он настоял на том, чтобы Британия продолжала Войну за австрийское наследство до победного конца, добиваясь наиболее выгодных условий мира. Благодаря его усилиям на посту казначея вооруженных сил, который он занимал до 1755 года, в Великобритании был построен поистине огромный военный флот, который обеспечил британское господство на море. Только линейных кораблей Британия могла выставить более 150 единиц. Питт был убежден в том, что в XVIII веке у Англии было больше шансов, чем у любой другой страны, достичь морского и, следовательно, мирового господства. Являясь островной державой Англия была избавлена от необходимости содержать большую армию и могла направлять на строительство и содержание флота больше средств, чем континентальные государства. Он убежденно транслировал свои мысли членам Палаты общин, и английский парламент безропотно голосовал за средства, которых требовал Питт, а купцы и финансисты Сити не скупились ссужать казну деньги, понимая, что сулят им американские колонии и Индия.
Из-за разногласий с Томасом Пелэмом, который сменил умершего в 1754 году брата Генри Пелэма на посту премьер-министра, Питт в ноябре 1755 года был уволен с поста казначея вооруженных сил. Но Т. Пелэму тоже пришлось оставить свой пост в том же ноябре. Военные неудачи начавшейся Семилетней войны и, прежде всего, захват французами Менорки привели к падению правительства. Новый премьер Уильям Кавендиш, герцог Девонширский в декабре сформировал кабинет. Питт, как уже отмечалось, получил место государственного секретаря южного департамента, однако в мае 1757 года он был уволен от должности из-за несогласия со смертным приговором адмиралу Бингу, допустившему падение Менорки. И тут произошло невообразимое: лондонский Сити вручил Питту первую в истории золотую «шкатулку свободы», выразив таким образом одобрение внешней и военной политики уволенного министра. Вслед за Сити множество других городов в течение семи недель присылали Питту свои «шкатулки свободы». Королю пришлось уступить. Было сформировано новое правительство, которое снова возглавил Томас Пелэм, но его власть была исключительно номинальной. Реальные властные полномочия принадлежали Питту, который снова занял пост госсекретаря южного департамента и продолжил войну.
Семилетняя война
События Семилетней войны описаны в исторической литературе весьма подробно, поэтому излагать их еще раз в деталях вряд ли оправдано. Следует, однако, подчеркнуть, что У. Черчиль называл ее Первой мировой войной. С этим трудно не согласиться, но придется тогда признать, что мировой, впрочем, как и две другие, она стала благодаря усилиям Великобритании. Если большинство европейских держав стремились к захвату территорий на континенте или действовали, как, например, Россия в рамках вынужденных союзов, то Питт видел главные военные цели Великобритании в захвате французских и испанских заморских владений. Он был убежден, что ситуация в Европе благоприятствовала его планам. Мир по итогам Войны за австрийское наследство оказался непрочным, ни одна из стран-участниц не была удовлетворена его условиями, поэтому он больше походил на перемирие. В центре конфликта по-прежнему находился спор по поводу захвата Пруссией австрийской Силезии. Мария Терезия, австрийская императрица, не могла себе простить того, что уступила доводам англичан и присоединилась к мирному договору, который был согласован в Аахене Британией, Францией и Голландией. Австрийцев в Аахен даже не пригласили. По договору Силезия оставалась за Пруссией и в Вене это вызывало нескрываемое возмущение. Правда, теперь добиться возвращения Силезии было сложнее, поскольку англичане отказались от традиционного союза с Австрией и предпочли вступить в альянс с амбициозной Пруссией, которая после захвата австрийской Силезии вынашивала замыслы присоединения еще Саксонии и некоторых других территорий. Сама Великобритания была сильна как никогда. Благодаря Питту и его заботам британский флот превосходил по численности и качеству кораблей все европейские флоты вместе взятые, команды были обучены и готовы к испытаниям. Оставалось только подтолкнуть участников конфликта к решительным действиям.
Следует напомнить, что в сентябре 1755 года английский посол Хэнбери Уильямс в Петербурге добился подписания англо-русской «субсидной конвенции», по которой Россия обязывалась выставить 55-тысяный вспомогательный корпус для защиты Ганновера от прусского или французского нападения, на содержание которого Англия согласилась выделять ежегодно 500 тысяч фунтов. Еще 100 тысяч фунтов выделялось на содержание 30-тысячной армии на западной границе России для организации в случае необходимости десанта на прусскую территорию. Когда в феврале 1756 года после долгих колебаний Петербург ратифицировал конвенцию, разразился скандал. Выяснилось, что Англия в январе 1756 года заключила аналогичную «субсидную конвенцию» с Пруссией для защиты Ганновера, получившую название Уайтхольской. Английскому послу тогда с большим трудом удалось замять скандал, но отношения между Петербургом и Лондоном были испорчены.
Как теперь известно, формально по Уайтхольской конвенции стороны обязывались объединить силы с тем, чтобы не допустить вторжения любой иностранной державы в германские государства. На практике Пруссия заручилась поддержкой Англии в борьбе с Австрией и Россией. Британские интересы не ограничивались защитой Ганновера от французов. В Лондоне предвидели последствия англо-прусского союза и рассчитывали, что в ответ будет создана антипрусская коалиция в составе по крайней мере Австрии и Франции. Более того, англичане помогли австрийскому канцлеру А. фон Кауницу, который вел переговоры с Парижем, преодолеть сомнения Людовика XV по поводу целесообразности союза с Австрией. Сначала во Франции узнали о заключении Уайтхолльской конвенции, а затем об активизации военных действий между англичанами и французами в Северной Америке. Последние сомнения отпали.
Всерьез воевать в Европе английское правительство не рассчитывало, поэтому Уайтхольская конвенция предусматривала финансовую компенсацию Пруссии, или, как тогда говорили, субсидию. Размер субсидии, по некоторым данным, составлял 670 тысяч фунтов на каждый год войны и существенно превосходил размер той суммы, которую предполагалось платить России. Судя по всему, английское правительство заранее предполагало, что услуги Пруссии не ограничатся защитой Ганновера. При этом Питт отдавал себе отчет в том, что в одиночку Пруссии будет трудно, если вообще возможно, выстоять против мощной коалиции Франции и Австрии, к которой могла присоединиться и России. Его расчет базировался на амбициях и самомнении прусского короля Фридриха II, которой считал себя гениальным полководцем. Как бы то ни было, ему было по силам сковать максимальное количество французских войск в германских землях и отвлечь внимание Парижа от заморских территорий. Для подстраховки армия Ганновера, которой предстояло действовать заодно с Пруссией, была усилена девятитысячным английским корпусом. Хотя участие английских солдат в европейских сражениях противоречило планам Питта, он был вынужден пойти на этот шаг, чтобы гарантированно получить свободу рук во французских и испанских колониях.
Кроме того, существуют вполне доказуемые основания полагать, что Пруссия могла рассчитывать на некоторую поддержку и со стороны Петербурга, где в русской внешней политике «хозяйничал» канцлер А.П. Бестужев-Рюмин, заключивший негласный союз с генерал-фельдмаршалом С.Ф. Апраксиным и великой княгиней Екатериной Алексеевной, будущей императрицей Екатериной II. Канцлер, как уже отмечалось в первой книге, был известен своими англофильскими, правда совсем не бескорыстными взглядами. Апраксин – в большей степени царедворец, чем боевой генерал – находился под сильным влиянием Бестужева. Великая княгиня, судя по всему, как и ее мать, Иоганна Елизавета, высланная из Петербурга за тайную переписку с Фридрихом II, была если не агентом прусского короля, то тоже ему сочувствовала. Это было вполне в ее духе. Позднее и Екатерина Алексеевна по стопам матери совсем не бескорыстно стала работать и на английского посла Х. Уильямса, которого снабжала важной информацией и даже передавала некоторые конфиденциальные документы. Более того, она состояла в переписке с Апраксиным во время его нахождения в действующей армии, который, как утверждает историк Б. Кипнис, все письма будущей императрицы сжег. В архивах осталось только три, впрочем достаточно безобидных письма великой княгини. В этой связи совершенно не случайным выглядит отступление русских войск, возглавляемых Апраксиным, из Восточной Пруссии после громкой победы над пруссаками при Гросс-Егерсдорфе в августе 1757 года. Следствие по делу Апраксина, к которому Екатерину привлекали, так напугали будущую императрицу, что о дальнейшей помощи Фридриху II не могло быть и речи. Впрочем, до самой смерти своей матери, Иоганны Елизаветы Гольштейн-Готторпской в 1760 году, будущая императрица российская несмотря на категорический запрет состояла с ней в тайной переписке. Переписку организовал канцлер Бестужев-Рюмин, когда его положение при дворе Елизаветы пошатнулось и он начал искать поддержку молодого двора. Известие о смерти матери в Париже заставило Екатерину Алексеевну здорово поволноваться, поскольку о письмах великой княгини могло стать известно, а возможно – и их опасное содержание. Но ей повезло, какие-то неизвестные друзья, как уже отмечалось в первой книге, своевременно изъяли архив покойной принцессы.
Расчеты Питта вполне оправдались, он оказался прирожденным стратегом. Фридрих II не стал дожидаться, пока Австрия и Франция развернут свои силы, и в конце августа 1756 года, внезапно вторгся в Саксонию и оккупировал ее. С этого нападения началась война, которая продолжалась долгих семь лет. Стороны беспрерывно маневрировали, сталкивались в кровопролитных сражениях, попеременно терпели поражения и одерживали победы. Значительными событием 1757 года стала победа армии Фридриха при Росбахе. Прусская армия, имея в своем составе 22 тысячи человек разбила вдвое превосходившее ее по численности объединенное франко-австрийское войско. Следующий 1758 год не принес решающего успеха ни одной из сторон, но в 1759 году прусская армия была наголову разбита русской армией. По словам Фридриха из 48-тысячной армии у него не осталось и 3 тысяч человек. Дорога на Берлин была открыта, но союзники не смогли договориться о направлении удара и разошлись на зимние квартиры. Неожиданное спасение Фридрих назвал «чудом Бранденбургского дома». Фридрих получил передышку и собрал новую 200-тысячную армию. После ряда неудач в кампанию 1760 года в ноябре Фридрих разгромил союзников при Торгау, правда, дорогой ценой. Сорок процентов его двухсоттысячной армии остались на поле боя. Это было последнее крупное сражение Семилетней войны. Силы армий Фридриха были на исходе, о наступлении он больше не думал. Еще один год прошел в маршах и контрмаршах, противники изматывали друг друга, стремились захватить вражеские магазины. В середине июля 1761 года две французские армии снова попытались захватить Брауншвейг и вторгнуться в Ганновер, однако потерпели неудачу. Численно немногочисленная прусская армия нанесла унизительное поражение превосходящим силам французов в сражении около деревни Фелингхаузен. До конца года французы больше не предпринимали никаких военных действий. Чувствовалось, однако, что следующий год будет для пруссаков годом катастрофы. Но случилось «второе чудо Бранденбургского дома». В конце декабря скончалась русская императрица Елизавета Петровна и на престол взошел Петр III, давний поклонник военных талантов Фридриха. В мае 1762 года в Петербурге был подписан мирный договор, и Петр Федорович начал планировать совместные операции с армией Фридриха в Европе. Дальнейшие события хорошо известны – в конце июня произошел переворот, и на русском троне оказалась немецкая императрица. Против ожиданий она не только подтвердила Петербургский мирный договор между Россией и Пруссией, но вывела русские войска из Пруссии, не потребовав даже компенсации за возвращенные пруссакам земли.
Английское правительство осталось верно своим традициям: как только необходимость в Пруссии отпала Лондон немедленно прекратил военную и финансовую помощь бывшему союзнику. Цели войны были достигнуты. Несмотря на неудачи первоначального периода военные действия англичан во французских колониях шли вполне успешно. В 1758 году по предложению купцов из Сити Питт организовал экспедицию против французских факторий в Западной Африке. В апреле 1758 года британские войска захватили плохо защищенный форт Сен-Луи в Сенегале. Экспедиция оказалась настолько прибыльной, что позже в том же году Питт отправил дополнительные экспедиции для захвата острова Горэ и Гамбии. В Северной Америке со второй попытки британцам удалось захватить Луисбург, но они потерпели досадное поражение при Карильоне. Впрочем, поражение не помешало британцам захватить позже французский Форт-Дюкен и вернуть таким образом Огайо. Тут же было начато строительство Форта-Питта58. На 1759 год Питт запланировал продолжение рейдов на французские колонии. В Северной Америке британские войска под командованием генерала Вулфа приблизились к центру Французской Канады и захватили Квебек, а затем и Монреаль. Война в Северной Америке была завершена полным триумфом стратегии Питта.
В том же году англичане попытались высадиться на Мартинику, но неудачно. Зато британским войскам удалось захватить Гваделупу. В Индии частная армия британской Ост-индской компании во главе с ее бывшим бухгалтером, оказавшимся талантливым полководцем, Робертом Клайвом отбили попытку французов захватить Мадрас. После ряда столкновений между армиями английской и французской Ост-Индских компаний французский флот в конце 1759 года покинул Индийский океан, сухопутные силы французов были разбиты и в результате осады пала столица Французской Индии Пондишерри.
Питт находился на вершине славы и влияния, когда в октябре 1760 года скончался Георг II. Новый король Георг III, когда-то союзник Питта, выступал категорически против участия английских войск в войне на европейском континенте. В отличие от двух первых Георгов интересы Ганновера для него были не актуальны. В противовес Питту он назначил лорда Бьюта, своего воспитателя и фаворита, государственным секретарем Северного департамента, который немедленно стал добиваться вывода английского корпуса из Европы. Тем не менее, Питт продолжил реализацию своего плана и в 1761 году. Англичанам после осады удалось захватить Бель-Иль, историческую территорию Франции, нанеся чувствительный удар по престижу французов. Премьер-министр Франции маркиз Шуазель понял, что ему осталось только договариваться. В августе 1761 года переговоры начались, но согласия достичь не удалось: Питт категорически отказался предоставить французам право рыбной ловли в районе Ньюфаундленда. Его неуступчивость вызвала серьезное недовольство Георга III, но Питт думал уже только об испанских колониях.
От своих агентов Питт получил донесение о том, что Испания и Франция подписали договор о наступательном союзе, направленном против Великобритании. Испанские бурбоны были весьма обеспокоены английскими победами. В Мадриде не сомневались, что после захвата французских колоний англичане возьмутся за испанскую империю. По условиям союза Испания обязалась не позднее мая 1762 года вступить в войну на стороне Франции, при условии, что Великобритания и Франция к тому времени будут еще воевать между собой.
Докладывая об этом кабинету министров, Питт настаивал на том, что Британии следует нанести упреждающий удар по испанскому флоту и ее колониям до того, как испанцы сумеют собрать силы. Бьют и Пелэм, а вслед за ними и остальные министры отказались поддержать предложение Питта. Они доказывали, что агрессия со стороны Великобритании рискует спровоцировать образование широкой антибританской коалиции. Столкнувшись со столь единодушной оппозицией Питт в октябре подал в отставку. Впрочем, в январе 1762 года новое правительство, которое снова возглавил лорд Пелэм, объявило-таки войну Испании. Ситуация было очевидной – в английском кабинете понимали необходимость захватить испанские колонии, просто почти неограниченная власть Питта и его несговорчивость стали пугать и короля, и министров. Военные действия развернулись на островах в Вест-Индии, где британцы захватили Гавану, а Ост-Индская компания высадила десант на Филиппинах и захватила Манилу. Программа Питта была выполнена, следовало закрепить достигнутые результаты дипломатическими инструментами.
Парижский мирный договор
Парижский мирный договор от февраля 1763 года закрепил за Великобританией права на французские земли в Сенегале, на французскую Канаду, Кейп-Бретон, острова Сент-Винсен, Доминику, Гренаду и Тобаго. Менорка также была возвращена Лондону. Франция отказалась от претензий на политическое и военное влияние в Индии, получив взамен свои торговые фактории и право торговли. Таким образом индийские царства, составлявшие Французскую Индию переходили под английский контроль. Англия согласилась вернуть Франции Бель‑Иль, Гваделупу, Мартинику, Мари‑Галант, Сен‑Люси, Сен‑Пьер и Микелон, а также предоставить право на рыбную ловлю у Ньюфаундленда. Испании англичане вернули Гавану и Манилу, но взамен получили Флориду и Луизиану. При этом следует иметь в виду, что тогда Флоридой назывались все огромные территории восточнее Миссисипи.
Условия мира оказались для французов мягче тех, которые намеревался навязать им Питт. Он-то хотел прибрать к рукам все французские и испанские колонии. Питт выступил категорически против договора. Несмотря на боли в ногах он явился в парламент протестовать. Поддерживаемый сыном, которому предстояло стать Питтом Младшим, «опираясь на костыли руками в теплых перчатках, еле стоя на обернутых фланелью ногах, он проговорил битых три часа, несмотря на сильнейшие страдания, требуя для своей страны монополии на мировую торговлю, проповедуя ненависть к дому Бурбонов и предрекая скорое возвышение Бранденбургского дома»59.
Следует, однако, признать, что Питт был несправедлив в своих требованиях. По итогам Парижского мира колониальные приобретения Великобритании были огромны. Получив в своё безраздельное владение всю восточную половину Северной Америки и Индию, Великобритания превратилась в ведущую мировую державу, которая распространила свои владения и влияние на западное и восточное полушария. Именно тогда было произнесена знаменитая фраза о том, что над Британской империей солнце не заходит никогда. Мировое господство английского флота было безоговорочным. Престиж английской короны поднялся на небывалую высоту. Франция все еще сохраняла положение одной из ведущих держав Европы, но открыто диктовать свою волю она больше не могла. Более того, полагают, что военные поражения французской армии и флота, подорвали авторитет королевской власти, способствовали широкому распространению вольнодумных идей энциклопедистов, распространяемых французскими ложами шотландского обряда, стали своего рода прологом к революционным событиям во Франции в конце XVIII века.
Правда, за Францией англичанам пришлось оставить право торговли в Индии и возвратить захваченные французские фактории. Индийские богатства вполне могли стать основой возрождения французской армии и флота, а возможно и промышленного взлета. Французская Ост-Индская компания была определенно предметом постоянного беспокойства в Лондоне, но все сложилось как нельзя лучше: фактическим руководителем Компании стал женевский банкир Жак Неккер.
Жак Неккер
Жак Неккер родился в 1732 году в семье адвоката из Бранденбурга, который в 1726 году стал гражданином Женевской республики. Семья была небогата, жалование профессора германского права в Коллеж дё Женев было невелико, большую часть семейных доходов приносил пансион для учеников из Англии, который Неккер-отец содержал на деньги, выделяемые английским правительством. Историк Эрбер Люти60, попытавшийся разобраться в биографии Неккера-сына, констатировал, что это обстоятельство «предопределило его специализацию на «английской корреспонденции», а дела Англии играли в его жизни и карьере решающую роль». Люти только не упомянул, что семья Неккеров прежде чем оказаться в Женеве одно время проживала в Англии, и благодаря английским связям Неккер-отец смог завести этот пансион для учеников из Англии.



