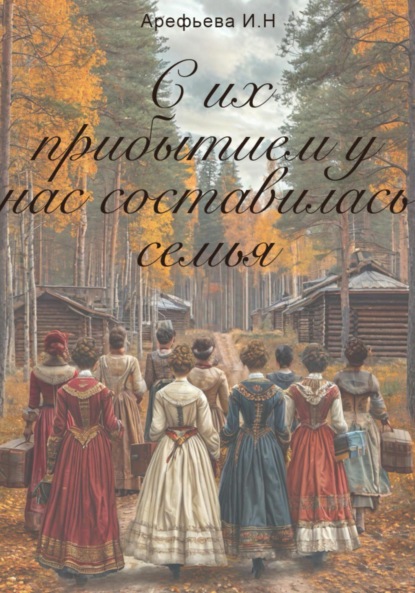
Полная версия:
С их прибытием у нас составилась семья
Декабрист и художник Николай Александрович Бестужев пытался запечатлеть на холсте и бумаге те моменты каторжной жизни, которые в будущем останутся не только воспоминаниями, но и ценными фактами истории для потомков. На одной, к сожалению, утраченной акварели, но оставшейся в виде копии виден кусочек сада, приютившийся между казематами.36
Парники Сергея Волконского художник изобразил при лунном свете, вероятно, не случайно. Все нарисованное кажется реальным и одновременно призрачным. Свет от луны освещает кусочки пространства между, на первый взгляд, обыкновенными крестьянскими домами. Но дома эти – казематы, в которых содержатся заключенные. Виден частокол высокого забора, окружающего место заточения декабристов. Невысокий парник одной стеной упирается в забор.
Мерцающий свет луны, кусты, парник – это элементы нормальной человеческой жизни, это символы воли, свободы. Но на всем этом лежит мрак заключения, тюрьмы, каторги. Рисунок выполнен сепией, т. е. яркость красок отсутствует. Рассматривая рисунок, чувствуешь боль художника, который сумел столкнуть чувство свободы и ужас заточения.
В Чите Волконские прожили более трех лет. Летом 1830 года пошли слухи о переводе их в Петровский завод. К Читинскому заключению более или менее привыкли. Впереди была полная неизвестность. Новая тюрьма, выстроенная специально для декабристов, находилась от Читы на расстоянии 630 верст (примерно 672 км). Как будет организован переход? Многие думали об этом, но в семье Волконских летом должен был родиться ребенок, у них были свои тревоги и опасения. Они оказались не напрасными: Софья родилась 1 июля и умерла при родах. Погиб второй ребенок Волконских – это была еще одна долго не заживающая рана семьи.
Однако 7 августа двумя партиями с интервалом в двое суток заключенные двинулись в путь. Впереди колонны шли солдаты в полном вооружении, «потом шли «государственные преступники», за ними тянулись подводы с поклажей… По бокам и вдоль дороги шли буряты, вооруженные луками и стрелами. Офицеры верхом наблюдали за порядком шествия».37
Если представить себе эту колонну «государственных преступников», то покажется, что они, изможденные, не поднимая голов, двигались вперед, как на заклание. Однако заключенным переход запомнился совсем по-другому. Из одной тюрьмы они шли в другую и прекрасно знали, что лучше там не будет. Но процессия двигалась по красивой местности. Во время привалов оглядывали окрестности, делали зарисовки особо привлекательных мест.
Декабрист Н.В. Басаргин вспоминал: «Останавливались не в деревнях, которых по бурятской степи очень мало, а в поле. Место выбирали около речки или источника на лугу и всегда почти с живописными окрестностями и местоположением».38 До Петровского добирались 46 дней, поэтому было время полюбоваться окрестностями, причем не только время, но и желание.
Подробно описал переход и М. А. Бестужев: «Прекрасные картины природы, беспрестанно сменяющие одни других, новые лица, новая природа, новые звуки языка – тень свободы хотя для одних взоров».39 По этим и многим другим воспоминаниям видно, что «государственные преступники» были людьми, тонко чувствующими природу, умеющими видеть красоту земли.
Первое впечатление от Петровского завода высказал, опять же в поздних воспоминаниях, И. В. Басаргин: «Петровский Завод, большое заселение с двумя тысячами жителей, с казенными зданиями для выработки чугуна, с плавильною, большим прудом и плотиною, деревянною церковью и двумя или тремястами изб, показалось нам после немноголюдной Читы чем-то огромным».40
Мария Николаевна Волконская описала и природу в районе Петровского завода, и поделилась первыми впечатлениями от тюрьмы:
«Петровск не может похвастаться своей растительностью. Здесь хвойные деревья в огромном количестве. Несколько пород красивых кустарников, достаточно богатая флора, но все это значительно ниже производительности Нерчинска и Читы; так как мы окружены со всех сторон горами, климат здесь холодный и сырой». 41
Тюрьма же произвела на молодую женщину ошарашивающее впечатление. Своим родным она писала:
«Вы расстроились при виде острога Читинского, но если б вы могли представить себе Петровск, я думаю, что ваш отклик был бы душераздирающим».42 «Самым ужасным было отсутствие в камерах окон; у нас горел огонь целый день, что очень утомляло зрение». 43
Другие жены декабристов сообщали родным и знакомым о том, что тюрьма построена на болоте, в казематах сырость, печи топятся плохо. Узнав еще в Чите об отвратительных условиях их будущей жизни в Петровском, жены обратились с письмами к шефу жандармов, но результатов эти обращения не имели. Когда же их письма попали в Петербург и Москву к высокопоставленным родственникам, то в обществе узнали, что заключенные живут в «темных тюрьмах». Это вызвало возмущение. Н.И. Лорер писал: «…общественное мнение громко обвиняло правительство за бесчеловечное с нами обращение». 44
Интересно, что осужденных не так потрясли сырость и холод, как отсутствие окон, т. е. дневного света. Значит, кроме выполнения работы, нельзя было читать, писать письма, заниматься каким-либо личным делом. Такое отношение к людям, и так уже жестоко наказанным, было оскорбительным.
А.Х. Бенкендорф, услышав, что родственники «государственных преступников» возмущены таким содержанием осужденных в тюрьме, выразил свое недовольство коменданту С.Р. Лепарскому:
«В письмах от жен государственных преступников после перевода из Читы в Петровский завод к родным и даже посторонним лицам содержатся, кажется, преувеличенные о дурном будто бы помещении их в сем остроге известия. (…) Я счел долгом доложить о сем государю, который повелел просить нас, дабы внушили стоящим в ведомстве вашим женам государственных преступников, что им не следовало бы огорчать родителей своих и чужих родственников плачевным описанием участи, коей их мужья со своими соучастниками подвергнуты в наказание, ими заслуженное, коей нельзя переменить и к облегчению коей сделано уже все, к чему только августейшие чувствования человеколюбия, сострадания и снисхождения могли побудить монарха чадолюбивого, милосердного и правосудного. Что государь, получив рапорт о Петровском заводе, сам повелел сделать светлые окна, что жены должны помнить убедительные пламенные просьбы, с которыми обращались ко мне» 45
Одно из писем М. Н. Волконской пришло к Е. К. Шаховской «вместе с письмом А.Х. Бенкендорфа, тот уведомлял Шаховскую о «милостивом» решении царя, который якобы «по собственному побуждению беспредельного своего великодушия высочайше повелеть изволил, чтобы в остроге сделаны были светлые окна».46
В 30-е годы в Москве, в дворцовых кабинетах, старались не слышать о жизни заключенных в Сибири или вовсе забывали о них. Стало быть, спасение утопающих стало делом рук самих утопающих. В условиях ссылки и каторги осужденные декабристы, которых Николай 1 посылал на явную гибель, не погибли, не одичали, наоборот, они жили и делали жизнь вокруг себя более удобной, осмысленной, интересной, насколько можно, но об этом порассуждаем еще не раз. А сейчас – об артели, которая помогла декабристам выжить и чувствовать себя людьми.
Как уже говорилось, начиная с Благодатского рудника, осужденные понимали, что выжить на каторге трудно, и образовали артель, которая на первых порах помогла не умереть от голода. В Читинском остроге уже был разработан артельный устав, создан артельный бюджет, где были расписаны все статьи расходов. Годовой пай был 500 рублей для тех декабристов, которым родственники пересылали деньги. Те, кто таких сумм не получали, отдавали в артель сколько могли или не вносили ничего. Артель сначала обеспечивала питаньем, затем осужденные стали шить или покупать одежду, этим в основном занимались женщины. Некоторые мужчины научились ремонтировать или шить башмаки, другие изготавливали неплохую мебель. Такая форма участия каждого в совместной жизни, конечно, очень поддерживала настрой заключенных.
Декабристы и их жены добились того, чтобы в заключении никто не умер от голода, чтобы все имели одежду, но этого было мало. Жизнь всегда требует осмысленности, красоты, радости. Однако какая красота может быть в каземате? В Петровском заводе женам было разрешено жить с мужьями в камерах, и первое, чем занялись здесь женщины, они стали облагораживать свое жилище. Мария Николаевна вспоминала: «Каждая из нас устроила свою тюрьму, по возможности, лучше; в нашем номере я обтянула стены шелковой материей, (мои бывшие занавески, присланные из Петербурга). У меня было фортепиано, библиотека, два дивана, словом, было почти что нарядно».46
Заметив, что камеры Волконских стали похожи на нормальный, человеческий дом, к ним в гости стали приходить друзья – декабристы, у которых камеры выглядели много хуже. Остались прекрасные, волнующие воспоминания о таких посещениях и у А. П. Беляева. «Иногда у Волконских устраивались чтения. Сергей Григорьевич занимал товарищей своими интересными рассказами: он говорил очень хорошо, многое видел на своем веку, многое знал, так как принадлежал к высшей аристократии, находился во время службы при государе (…) Жена его, обладавшая очень хорошим голосом и основательными музыкальными знаниями, услаждала всех своим пением и игрою на фортепиано. Много приятных минут доставляла княгиня Волконская обитателям тюрьмы».47
Можно представить себе длинный тюремный коридор с дверьми камер- и звуки рояля, и мелодичный женский голос.
О разнообразных интересах семьи Волконских можно немало узнать из переписки: 25 декабря 1831 года Мария Николаевна делилась с З. А. Волконской своими впечатлениями:
«Друзья Сергея или ближайшие его знакомые посещают нас; так мы проводим вечера, а так как это все люди просвещенные, то мы проводим порой время приятно». 48
«Помню Волконского и Нарышкина, помню потому, что когда, по требованию коменданта, жены переходили в казематы к мужьям, то у Волконских был рояль, который с нею переносился в галерею перед номером, и мы часто наслаждались пением дуэтов Марии Николаевны Волконской с Елизаветой Петровной Нарышкиной, а когда и скрипка Вадковского к ним присоединялась. Кроме прелести двух приятных и музыкально обработанных голосов оригинальным было то, что эти звуки цивилизованного мира, звуки грациозной итальянской музыки раздавались в глубине каземата, почти на границах Китайской империи.
Это пребывание в казематах наших и чудных дам продолжалось недолго, так требовалось только для проформы, и затем они снова возвращались в свои дома, которые и здесь были заранее построены, и мужья отпускались к ним». 49
Сергей Григорьевич и Марья Николаевна всю жизнь любили книги и даже в обстановке пребывания в тюрьме много читали. Просмотр присылаемых газет, журналов был для них необходимым занятием. В письме к В. Ф. Вяземской, написанном 12 июня 1830 года, отчетливо проявилось отношение Марии Волконской к литературе, есть и упоминание о А. С. Пушкине.
«Присылка «Литературной газеты» доставляет мне двойное утешение: вновь увидеть имена любимых писателей моей родины и получать некоторые сведения о том, что делается в мире, к которому я уже не принадлежу. Прошу их проявлять и впредь то же участие ко мне, продолжая присылать свои произведения и продлевать счастливые мгновения, какие они мне уже доставили. Возможно, что я слишком назойлива, но я хотела бы абонироваться у Вас не только на этот год, но и на все время нашего изгнания. (…) Поручаю Вам, добрая и дорогая княгиня, передать от меня особый привет Вашему мужу и Пушкину. Прошу Вас обязательно передать им выражение моего высокого уважения и почтения». 50
Из Петровской тюрьмы 20 марта 1831 года Мария Николаевна описала в письме к З. А. Волконской свое впечатление от прочтения трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».
«Борис Годунов» вызывает наше общее восхищение; по нему видно, что талант нашего великого поэта достиг зрелости; характеры обрисованы с такой силой, энергией, сцена летописца великолепна, но, признаюсь, я не нахожу в этих стихах той поэзии, которая очаровывала меня прежде, той неподражаемой гармонии, как ни велика сила его нынешнего жанра». 51
Краткая оценка трагедии «Борис Годунов», данная М. Н. Волконской, отличается живым, эмоциональным восприятием прочитанного. Мария Николаевна отметила и достоинства, и недостатки произведения, и видно, что ей было с чем сравнивать. Она знала стихи Пушкина, написанные ранее, она была знакома с самим поэтом и чувствовала, в чем сила его таланта.
Не только Волконские, но и все декабристы находили время для чтения. Из постоянно заказываемых и присылаемых родственниками книг, журналов, газет составилась библиотека. Здесь можно было найти книги по всем отраслям наук, причем и на русском, и на иностранных языках.
В Петровском заводе продолжала действовать «казематская академия», возникшая еще в Чите. В доме, стоявшем во дворе, отведена была большая комната, куда в определенные дни декабристы приходили, чтобы послушать лекцию или выступление своего товарища. Возникали дискуссии, высказывались мнения по предлагаемым проблемам. А. П. Беляев с благодарностью вспоминал «Академию» и отметил роль тех декабристов, которые проводили занятия. «Здесь читал математику по Франкеру Павел Сергеевич Бобрищев–Пушкин, который был преподавателем еще в муравьевском училище. Спиридонов читал свои записки по истории Средних веков, Оболенский читал философию. Одоевский – курс, им составленный, русской словесности … и русскую грамматику его сочинения. Сколько могу припомнить, Никита Михайлович Муравьев и Репин читали из военных наук. Другие читали свои переводы».52
При всех трудностях пребывания на каторге у декабристов, как видим, не прерывалась интеллектуальная жизнь. Их воспитание, полученное образование, необходимость не останавливаться, а постоянно совершенствовать себя – все это требовало не поддаваться унынию, не доходить до отчаяния, а сохранять свое внутреннее «Я».
Мария Николаевна и Сергей Григорьевич, кроме ощущения постоянной несвободы, невозможности жить деятельной жизнью, носили, но глубоко в душе, незаживающую рану: потерю двоих детей – Николеньки и Софьи.
О рождении сына Михаила и дочери Елены Мария Волконская написала в своих воспоминаниях: «В этом,1832 году, ты явился на свет, мой обожаемый Миша, на радость и счастье твоих родителей. Я была твоей кормилицей, твоей нянькой и, частью, твоей учительницей, и, когда несколько лет спустя, Бог даровал нам Нелли, твою сестру, мое счастье было полное».53
В Петровском заводе княгиня Волконская «обзавелась собственным домом. Обзавелись домами и другие жены. Эти дома все стояли по одной стороне улицы – которую назвали Дамской улицей», – так написал об этом внук Волконских – Сергей Михайлович. Таким образом, счастливая мать выхаживала и растила сына уже в своем доме. Ухаживать за малышом помогала Марии Камилла Петровна Ивашева – женщины подружились. Камилла с удовольствием нянчилась с сыном подруги, ожидая в скором времени появления своего первенца.
В 1832 году срок ссылки Сергея Григорьевича был сокращен до 10 лет. Через три года по ходатайству матери он был освобожден от каторжных работ. Александра Николаевна делала все, что могла, чтобы облегчить судьбу сына. Она успела порадоваться рождению внука Михаила, но не успела узнать о том, что в 1835 году родится внучка Елена. Мать Сергея Григорьевича скончалась в 1835 году. Середина 30 –х годов стала для Волконских началом нового этапа жизни. Они еще находились в Петровском заводе, но это уже была жизнь на поселении, она была более свободной. В 1836 году было разрешено переехать в село Урик Иркутской губернии. Надо было снова покупать дом, устраиваться жить на новом месте, растить и учить детей, но здоровье Сергея Григорьевича ухудшилось.
В село Урик они переправились только через год. Мария Николаевна, кроме устройства быта своей семьи, думала и о том, как помочь тем заключенным товарищам, которые остались в ссылке. Особенно она заботилась о талантливом художнике Николае Бестужеве, который все годы ссылки создавал портретную галерею декабристов. Ему были необходимы принадлежности для рисования. Мария Николаевна отправляла письма родным с просьбой выслать все необходимое. Поселившись в Урике, семья Волконских не прекращала общения с оставшимися друзьями.
Что же было главным в характере этой милой, энергичной, но непостижимой женщины? Конечно, огромная сила воли, которая не давала ей расслабиться и заставляла вынести годы изгнания. Вспоминаются слова из ее письма, посланного мужу в Петропавловскую крепость: «Какова бы ни была твоя судьба, я ее разделю с тобой…». Но каково это было для молодой женщины действительно «разделить» судьбу с осужденным мужем? «Первое время нашего изгнания, – вспоминала М. Н. Волконская, – я думала, что оно, наверное, кончится через 5 лет; затем я себе говорила, что это будет через 10; потом – через 15 лет; но после 25 лет я перестала ждать. Я просила у бога только одного: чтобы он вывел из Сибири моих детей».54
В 1835 году Волконский получил право выехать на поселение, но болезнь не давала это сделать. По совету врачей он уехал на Тункинские минеральные воды, лечился более двух месяцев, в сопровождении двух казаков вернулся в Петровский завод. Дочь Елена родилась в сентябре 1835 года, стало быть, с переездом надо было еще подождать. Здоровье Сергея Григорьевича не восстанавливалось. Лишь в марте 1837 года семья перебралась в село Урик Иркутской губернии.
Здесь за несколько месяцев был построен дом, родственники присылали и продукты, и одежду. Налаживалось хозяйство. Главное, надо было растить детей. Михаил и Елена получали домашнее образование, и это беспокоило родителей: надо было думать об их устройстве в будущем.
В 1846 году государь Николай 1 издал указ, разрешающий детям некоторых «государственных преступников» учиться в правительственных учебных заведениях, но не под фамилией отца, а «именоваться по отчеству». Волконские, ничего хорошего не ожидая от правительства, сначала решили, что детей у них заберут насильно, но, к счастью, это было «предложение» Государя для матерей.
Мария Николаевна в Записках вспоминала, какая радость охватила ее:
«Услыхав эти слова, мир и радость опять наполнили мое сердце. Я вас схватила и стала душить в моих объятьях, покрывая вас поцелуями и говоря вам: «Нет, вы меня не оставите, вы не отречетесь от имени вашего отца».55 Сергей Волконский все же колебался, он понимал, что детям необходимо иметь хорошее образование. Мария Николаевна стала хлопотать о переезде в Иркутск, где Миша смог бы посещать гимназию. Разрешение было получено. В это время губернатором стал Николай Николаевич Муравьев, о котором Мария Николаевна вспоминала как о «честнейшем и одареннейшем человеке». В 1845 году Волконские поселились в Иркутске. Они приобрели большой дом. Мария Николаевна с удовольствием принимала гостей, устраивала музыкальные вечера. Дети, Михаил и Елена, получали домашнее воспитание и учились в гимназии.
Однако жизнь Сергея Григорьевича складывалась в Иркутске своеобразно. Он большую часть времени проводил в селе Урик, занимаясь сельским хозяйством. Н.А. Белоголовый (в то время еще юноша, родом был из купеческой семьи, обучался в семье декабриста А.П. Юшневского, затем А.В. Поджио) оставил интересные воспоминания об иркутском периоде жизни Сергея Волконского. «Старик Волконский – ему уже тогда было около 60 лет – слыл в Иркутске большим оригиналом. Попав в Сибирь, он как-то резко порвал связь со своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практичного хозяина, и именно опростился … С товарищами своими он хотя и был дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал по целым дням на работах в поле, а зимой любимым его времяпровождением в городе было посещение базара».56
Н. А. Белоголовый с удивлением отмечал, что Волконский с удовольствием беседовал с крестьянами о хозяйстве, вместе с ними мог перекусить «краюхой пшеничной булки». Николай в Иркутске хотел видеть Сергея Петровича человеком знатного рода, заслуженным, умудренным житейским опытом, и внешне соответствующим своему уровню. Но сам Волконский, пройдя сибирскую ссылку, уже не мог выглядеть «светским человеком», точнее, не считал это нужным.
50-е годы для Волконских были наполнены разнообразными семейными событиями. Сергею Григорьевичу к тому времени исполнилось 62 года, Марии Николаевне – 45 лет. Они уже вошли в средний возраст жизни, и их теперь волновала судьба их подросших детей гораздо больше, чем выяснение каких-то своих отношений, давно уже сложившихся. Сын, Михаил Сергеевич, в 1849 году окончил Иркутскую гимназию, причем с золотой медалью. Вскоре он стал чиновником особых поручений при губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве. Он и дальше будет успешно подниматься по ступенькам карьерной лестницы, ничем не беспокоя своих родителей.
Дочь Елена, в семье ее называли Нелли, доставила родителям много переживаний и волнений. Она рано вышла замуж за чиновника из числа приближенных к Н. Н. Муравьеву – Дмитрия Молчанова. Мария Николаевна согласилась с желанием дочери, но Сергею Григорьевичу и некоторым друзьям Молчанов не понравился. Брак состоялся, но тревог и молодой супруге, и родителям он принес немало.
Первые годы семейной жизни Елены и Дмитрия были счастливыми, родился сын Сережа, но семья, крепкая и дружная как будто рассыпалась. В июле 1852 года Сергей Волконский оказался в одиночестве: Молчановы уехали в Красноярск и дальше, Михаил находился на службе, жена лечилась в Забайкалье на курорте Дарасун. Письмо, написанное Марии Николаевне, наполнено разными чувствами: и заботой, и обидой, и даже родительской ревностью к тому, что дети живут самостоятельной жизнью, не такой, как им, родителям, мечталось.
«Передо мной сейчас два твоих письма, мой дорогой, любимый друг, от 10 и 28 июня, единственные, которые я получил от тебя из Тарасуна. Я не могу тебе выразить словами, милый друг, как я счастлив твоему отношению ко мне, возврата твоего доверия и нежности ко мне. Чтобы я был достоин этого до конца моих дней …Я не получаю известий непосредственно от Молчановых (дочери и зятя) за исключением тех, которые пришли из Красноярска (…) Я им пишу часто, и в последний раз я их упрекнул за молчание. Мы им в глаза смотрим, а они часто к нам спиной поворачиваются. Хорошо бы иногда давать урок Нелли, потому что от Молчанова мы не можем ничего другого потребовать, кроме того, как сделать счастливой нашу дочь. (…) Известие о твоей долгой разлуке с сыном, вероятно, наводит на тебя грусть, мой добрый друг, но наши личные чувства должны смолкнуть перед превосходствами службы. (…) Мишель меня не забывает, пишет мне много, просто и доверительно. Я ему в этом признателен и благодарю его за это». 57
В сентябре 1854 года дочь Елена с мужем уехали в Москву. Сына своего Сережу они оставили у родителей. С. Г. Волконский регулярно посылал им короткие письма, чтобы известить, что с их маленьким сыном все хорошо. Но даже эти несколько строк проникнуты заботой, любовью, гордостью за внука.
«Родные мои детки. Так спешу, что вряд ли разберете мою рукопись, и Авдотья и ваш сынок на руках у кормилицы, и моя жена возле. Сережа мил и здоров так, как и при вас был». 58
В очередном письме отец сердечно поздравил молодоженов с четвертой годовщиной их венчания:
«Мои дорогие друзья, сегодня очень важная дата и для вас, и для нас. Именно в этот день в церкви и на небесах был благословлен ваш союз. И вот прошло уже четыре года, три абсолютно счастливых, но последний год был полон испытаний и тревог. В этот день, как и на протяжении всех четырех лет, мы несказанно за вас счастливы». 59
Когда читаешь письма С. Г. Волконского, к счастью, дошедшие до нашего времени, радуешься тому, что все более явственно выступает из них душевно богатый человек, постоянно решающий свои проблемы, твердый в суждениях, имеющий свое мнение и не отступающий от него. Видишь, как важна для него семья – дети, внуки, родные люди, в общении с которыми он чувствует постоянную потребность. Так, в сентябре 1854 года он пишет дочери и зятю письма 10 числа,1 7, 18, 20, 24, 27 – и объясняет причину частого общения так:
«Мои дорогие друзья, я вам столько писал, что уже должен бы избавить вас от скуки читать мои письма, но когда я пишу вам, мне кажется, что вы передо мной – за это меня простите». 60
Сергей Григорьевич часто писал и сыну Михаилу, и своей дочери. Михаил Сергеевич был с отцом в постоянной переписке: ему нужны были советы отца, имеющего огромный жизненный опыт. 24 сентября 1854 года отец поделился с дочерью своей радостью: к ним в Иркутск приехал сын.
«Вчерась неожиданно приехал к нам Миша (…) Наш общий друг Миша здоров, потолстел, посмуглел и в особенности развился в плечах. Об радости нашей его видеть в семейном нашем кругу нечего мне говорить – вы это поймете, заочно делить эту радость из его и наших писем. Сестра полюбила его, и он на нее сделал то же впечатление, какое при первом свидании Неля. (…) Благодарю Бога, что он воротился, благодарю Бога, что генерал им доволен и сказал ему при отправлении его: «Скажите Сергею Григорьевичу, что я вами доволен, очень доволен». 61



