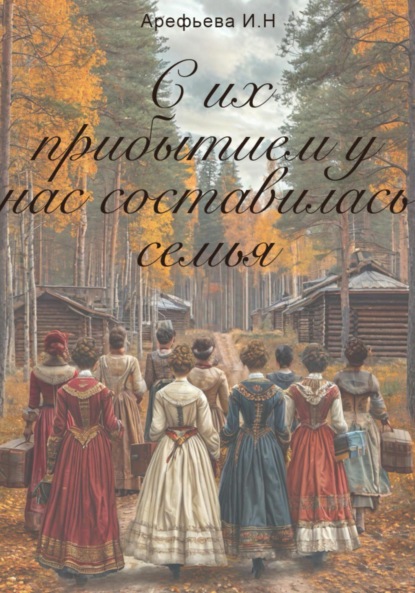
Полная версия:
С их прибытием у нас составилась семья
С 1816 года Трубецкой стал членом и организатором Союза спасения, он хотел по-настоящему быть полезным своей Родине. Союз со временем распался, точнее, был распущен. Стало известно, что Государю на членов тайной организации поступили доносы, но Александр 1 пока не увидел в них серьезной опасности.
Союз Благоденствия был образован в 1818 году. Вот как в своих «Записках» Сергей Петрович вспоминал это время: «Члены общества, огорченные поступком Государя и обманутые в своих надеждах, не могли, однако же, расстаться с мыслью, что, действуя соединительными силами, они много могут сделать для пользы своего отечества. Число готовых содействовать ежедневно увеличивалось, оставалось ясно определить порядок действия и начала, на которых он должен был быть основан».4 Сергей Волконский, уходя мысленно к тому времени, когда общество привлекало к себе много новых участников, замечает, что порядок действий определен не был, и «начала», то есть задачи четко сформулированы не были. «Общество названо по предмету своей цели Союзом Благоденствия, и эпиграф его означал твердое намерение членов посвятить всю свою жизнь исполнению этой цели.» Конечно, это звучит весьма благородно, но цель явно была не одна и четко определена не была. Между тем руководящий состав был избран, и над новым уставом шла работа. «Большая часть членов общества находилась в Москве, и в числе их почти все основатели. Они избрали четырех членов, которым поручено было составление нового устава. Это были Н. Н. Муравьев, кн. П. Долгорукий, Никита Муравьев и кн. Трубецкой».5 Союз был ликвидирован в 1821 году.
Однако Союз Благоденствия сыграл свою роль. Члены союза старались четко формулировать свои взгляды по многим обсуждаемым ими вопросам, чуть позже сформулированным П. И. Пестелем в «Русской правде»: об уничтожении сословий; уничтожении крепостничества; о разделении земельного фонда между сельскими хозяевами и государством; об уничтожении самодержавной формы правления и проч.
На смену Союзу благоденствия образовались Южное общество, членами которого стали П. И. Пестель, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, В. Л. Давыдов, С. Г. Волконский и др., и Северное общество с центром в Петербурге, членами которого стали Никита Муравьев, И.И. Пущин, К. Ф. Рылеев, Е. П. Оболенский, С. П. Трубецкой и другие. Члены обществ часто расходились в своих взглядах, особенно по вопросам решительных действий, то есть воплощения в жизнь планов общества и отмены крепостного права. Одни считали, что действовать надо решительно и быстро; другие были убеждены, что ни помещики, ни крестьяне к реформе еще не готовы.
Сегодня не стоит ставить перед собой задачу определить, кто в своих убеждениях был ближе к истине. О порядке проведения реформы и процессе освобождения крестьян были написаны статьи и исследования М. С. Луниным, П. И. Пестелем, М. А. Фонвизиным, И. Д. Якушкиным и, конечно, С. П. Трубецким. Для современных людей, учитывающих исторический опыт, интересно, что С. Трубецкой обращал особое внимание на необходимость приобретения знаний, изучения состояния общества, общественных связей, потому что реформа отмены крепостного права должна была коснуться всех слоев общества.
В «Записках» князя С. П. Трубецкого чувствуется его государственный подход к решению проблем Отечества. И тем удивительнее кажется реакция Государя Александра 1, которому многое доносили из того, что планировали члены Союза. Желание учиться он нашел «очень странным» и «несколько раз повторял слова: Это странно! Очень странно! Отчего они вздумали учиться!»6
В 1823 году Сергей Петрович Трубецкой стал одним из председателей Северного общества. Единства во взглядах членов общества не было. Идеологом стал Никита Муравьев, написавший проект Конституции. С. П. Трубецкой не был согласен с идеей установления республики, был против истребления царской фамилии. Он считал: если Государь не согласится на их условия, надо вывезти его за границу. Однако о каком Государе шла речь в дни перед 14 декабря, было не понятно. По закону о престолонаследовании императором должен был стать Константин Павлович, брат скончавшегося Александра I. Однако Константин от престола отказался, и Сенат присягнул Николаю I.
Члены Северного общества решили использовать обстановку междуцарствия и выйти с войсками на Сенатскую площадь. Руководить восстанием должны были К. Ф. Рылеев и С. П. Трубецкой. Однако Трубецкой был против кровопролития, не верил, что войска выйдут на площадь. Он считал, что надо убедить Николая I принять их план о Временном правительстве. В день восстания Трубецкой на Сенатскую площадь не явился. Декабристы расценили это как измену, но было все сложнее. Сергей Петрович был арестован 15 декабря 1825 года и отправлен в Петропавловскую крепость.
На допросе Николай I воскликнул:
«Что было в этой голове, когда вы с вашем именем, с вашей фамилией вошли в такое дело? Гвардии полковник, князь Трубецкой !.. Как вам не стыдно быть с такой дрянью! Ваша участь будет ужасная». 7
В показаниях Следственному комитету сохранились объяснения князя Трубецкого, почему 14 декабря он не примкнул к восставшим.
«Вчерашний день (14-го декабря) по утру Пущин и Рылеев были у меня и говорили, что если роты выйдут, то они полагаются на меня, что я примкну к ним. Я сказал Пущину, чтоб он на меня не полагался, и если такое несчастие будет, то оно ни к чему не приведет, кроме погибели. (…) Я в душе моей уверен был, что ничего быть не может, и потому отправился в канцелярию дежурного генерала спросить, когда мне надобно будет прийти к присяге, оттуда я по обыкновению пошел к сестре моей Графине Потемкиной, которой читал Манифест… На площади, выезжая с Невского проспекта, увидел большое на оной смятение, встал с саней и спрашиваю, что такое, мне сказывают, что Московский полк кричал «ура» Императору Константину Павловичу». 8
С. П. Трубецкой понял, что схватка неизбежна, и был в ужасе от того, что вовремя не смог предотвратить пролившуюся кровь.
На допросах в Следственном комитете обвиняемый отвечал обстоятельно, подробно, нисколько не умаляя своей вины.
Вопрос:
«С какого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей?»
Ответ:
«Свободный образ мыслей заимствовал я по окончании войны с французами, из последовавших по утверждении мира в Европе происшествий, как-то: преобразование Французской империи в конституционную Монархию, обещания других Европейских Государей дать своим народам конституцию». Затем он напомнил следствию, что «покойный Государь Император на Сейме в Варшаве «обещал и Россию со временем «привести в такое же состояние».9
Когда знакомишься с материалами следственного дела, создается впечатление, что обвинители и обвиняемый разговаривали на разных языках. С. П. Трубецкой объяснял, каково было его участие в тайном обществе, но вины своей в этом не видел. Именно на этих допросах рождались две правды. Одна основывалась на твердых убеждениях, определенности, доказательности, уверенности в своих словах Сергея Трубецкого. Эта правда была нова, непривычна, чужда Императору и его чиновникам. Вторая правда, подтвержденная законами, была уже старой, потертой, изношенной, уходящей в прошлое, но еще живой и жестокой.
В приговоре по 1-му разряду смертная казнь С. П. Трубецкому была заменена вечной каторгой. Сергей Петрович позже узнал, что придать смертной казни должны были 9 человек, в этом списке он был №6. Однако Николай I сократил список до пяти человек.
Но пора вернуться к Екатерине Ивановне, которая знала об аресте мужа и мучительно ожидала хоть каких-то сведений о нем. В декабре 1825 года ей исполнилось 25 лет, и за это время у нее не случалось еще серьезных переживаний – родители от всего неприятного ограждали свою дочь. И вдруг – неожиданное письмо мужа, пришедшее прямо из Зимнего дворца:
«Друг мой, будь спокойной и молись Богу!.. Друг мой несчастный, я тебя погубил, но не со злым намерением. Не ропщи на меня, ангел мой, ты одна еще привязываешь меня к жизни, но боюсь, что ты должна будешь влачить несчастную жизнь, и, может быть, легче бы тебе было, если б меня вовсе не было. Моя участь в руках Государя, но я не имею средств убедить его в искренности. Государь стоит возле меня и велит написать, что я жив и здоров буду. Бог спаси тебя, друга моего. Прости меня.
Друг твой верный Трубецкой.». 15 декабря 1825 года.10
Это первое после ареста письмо мужа было действительно написано в присутствии Государя. На допросе Сергея Петровича Николай I не выдержал и буквально взорвался: «Какая фамилия князь Трубецкой, гвардии полковник и в каком деле! Какая милая жена! Вы погубили вашу жену!»11 Николаю I действительно трудно было понять, почему такие люди, как С. Г. Волконский, Е. П. Оболенский, Н. М. Муравьев, С. П. Трубецкой и другие представители высшего сословия, как он считал, предали его! Действительно, юность и молодость этих людей протекала в одном пространстве: они встречались на вечерах в княжеских и графских гостиных, они общались на балах, виделись в театрах. У Николая Павловича и Екатерины Ивановны Лаваль было одно общее воспоминание: в 1818 году на рождественском балу она и будущий Государь кружились в танце, разговаривали, улыбались друг другу. Николаю Павловичу понравилась обаятельная, образованная девушка. Он запомнил ее. Теперь же он должен был судить ее мужа! Принести ей боль. Он предложил Трубецкому написать письмо жене и передать ей, что будет жив и здоров.
Н. А. Некрасов в поэме «Русские женщины» попробовал представить себе, с каким чувством Екатерина Ивановна вспомнила ту кадриль, которую танцевала с будущим Государем.
Мне не забыть… Потом, потомРасскажут нашу боль…А ты будь проклят, мрачный дом,Где первую кадрильЯ танцевала… Та рукаДосель мне руку жжет…Ликуй…Это воспоминание о юношеском увлечении, последний раз вспыхнув, погасло навсегда. Через несколько каторжных лет Екатерина Трубецкая рискнула обратиться к Государю с просьбой ускорить их переезд из Петровского завода на поселение и получила отказ. Кроме того, не было получено разрешения приехать в Петербург проститься с умирающим отцом. Но все это случится много позже.
Тогда муж писал ей из Петропавловской крепости. 28 дек. 1825г.
«…Ангел мой, ты все уговариваешь меня, чтоб я берег здоровье свое, но не меньше ли бы ты мучилась, если б все уже со мной свершилось. Каждая минута жизни моей не есть ли уже для тебя минута мученья. И если жизнь моя продлится, то что от того для тебя произойдет, кроме терзаний и несчастья. При всем милосердии Государя он не может и не должен меня пощадить. Он не может не осудить меня на самую ужаснейшую участь, если жизнь мне оставляет. Скажи мне, друг мой, какая же может быть твоя участь, если жизнь моя продолжится. Какую горькую чашу я заставил тебя пить. Нет сил думать о том». 12
Прочитав первые письма арестованного мужа, Екатерина Ивановна отправила ему ответные уже в Петропавловскую крепость:
«Я, право, чувствую, что не смогу жить без тебя. Я все готова снести с тобою (…), не буду жалеть ни о чем, когда буду с тобой вместе. Меня будущее не страшит. Спокойно прощусь со всеми благами светскими. Одно меня может радовать: тебя видеть, делить твое горе (…) и все минуты жизни тебе посвящать. Меня будущее иногда беспокоит на твой счет. Иногда страшусь, чтоб тяжкая твоя участь не показалась тебе свыше сил твоих. Мне же, друг мой, все будет легко переносить с тобою вместе».
Янв. 1826 г.13
Еще не зная, какой будет приговор, Екатерина Трубецкая уже твердо решила следовать за мужем, куда бы его ни отправили. Не случайно на Руси говорили: «Нет выше той любви, как за друга душу свою полагать»14. Любящая женщина не столько умом, сколько всей душой своей поняла: она должна быть рядом с мужем.
В поэме Н. А. Некрасова мужественная женщина, прощаясь с отцом, объясняет ему свой выбор:
О, видит Бог! Но долг другой,И выше и трудней,Меня зовет!.. Прости, родной!Напрасных слез не лей!Далек мой путь, тяжел мой путь,Страшна судьба моя, Но сталью я одела грудь…Гордись – я дочь твоя.В действительности 24 июля Екатерина Ивановна уехала с матерью в Москву: Александре Григорьевне необходимо было присутствовать на коронации Николая I. 27 июля Екатерина Трубецкая получила разрешение на отъезд в Сибирь, и, уезжая, она знать не могла, что больше никогда не увидит ни мать, ни отца. Долгие годы их будут соединять только письма, идущие одни – в Петербург, другие – в Сибирь.
Екатерина Ивановна мысленно собиралась следовать за мужем, куда бы его ни отправили, но Сергей Петрович, хоть и надеялся на не самый страшный приговор, понимал, что возможно и худшее. Однако жена добилась свидания. Через много лет в «Записках» Трубецкой передал то чувство благодарности, преклонения перед этой женщиной, которая спасла его от уныния, от страшных дум в первые дни его ареста. «В понедельник на святой неделе я имел неожиданное счастье обнять мою жену. (…) Не легко изобразить чувства наши при этом свидании. Казалось, все несчастья были забыты, все лишения, все страдания, все беспокойства исчезли. Добрый, верный друг мой, она ожидала с твердостью всего худшего для меня, но давно уже решилась, если только я останусь жив, разделить участь мою со мной и не показала ни малейшей слабости… До сих пор я не имел никакой надежды увидеть когда-нибудь жену мою, но это свидание заставило меня надеяться, что мы опять будем когда-нибудь вместе (…) Ничего отчаянного, убитого не было ни в лице, ни в одежде, во всем соблюдено пристойное достоинство».15
Это свидание сыграло огромную роль в жизни князя Трубецкого: он уверился в том, что для него не все еще кончено, он поверил, что они еще будут вместе. Уже совершенно с другим чувством он принял свой приговор, и надежда давала ему силы во время тяжелой дороги в Сибирь: он теперь знал, что жена его не оставит, а значит, будет и дальше продолжаться жизнь, сил вынести трудности у него хватит. Однако все это произойдет позже.
Вернемся к тому времени, может быть, самому страшному, когда, в Петропавловской крепости заключенные ждали суда, формулировки их вины.
Наконец, 10 июля 1826 года, всех собрали «в большом зале комендантского дома». За огромным столом сидели члены совета, сенаторы и различные служащие. С. П. Трубецкой, как и С. Г. Волконский, всю жизнь помнили этот момент своей жизни. «Торжественно прочли каждому из нас, начиная с меня, сентенцию Верховного Уголовного Суда. Все мы были приговорены им к отсечению головы, которая казнь Императором уменьшена и заменена осуждением вечно на каторжную работу. (…) Я думал, что меня осудят за участие в бунте, меня осудили за цареубийство. Я готов был спросить, какого царя я убил или хотел убить».16 И все же чувство, что осужден не на смерть, было сильным.
Далее в «Записках» С. П. Трубецкой описал процесс перехода дворянина, офицера в разряд «государственных преступников». Семерых вызвали из камер, провели перед знаменем Лейб-гвардии Семеновского полка, «прочли вновь сентенцию», сломали над головой шпагу; с трудом, но сорвали с него мундир. Примерно так же акт гражданской казни запомнил и С. Г. Волконский. В кострах горели блестящие мундиры офицеров, которые в Отечественную войну под пулями защищали свою Родину, а теперь на них надели тюремную робу.
В этот день Трубецкому передали письмо от жены: она «уведомляла меня, что вслед за мной едет в Сибирь».17 Ночью с 23 на 24 июля 1826 года С. П. Трубецкого отправили из Петропавловской крепости к месту каторги.
Сергей Петрович всю жизнь помнил письма жены, написанные после того ужасного и непоправимого, что случилось в их жизни. В письмах Екатерины Ивановны не было ни слова упрека, ни обиды на мужа, ни жалости к себе. Понимала ли она в те дни, что предстоит ей пережить, как изменится теперь их жизнь? Пока она была готова только проститься со светскими благами, но трудная дорога в Сибирь, требования иркутского губернатора отказаться от всех прав, четыре месяца ожидания разрешения продолжить дорогу, прибытие на Благодатский рудник и свидания с мужем в каземате, конечно, заставили ее понять, что та легкая, беззаботная жизнь графини Лаваль, которой она жила совсем недавно, ушла в безвозвратное прошлое. Что будет впереди? К чему себя готовить? Она не знала…
Когда заключенных повезли в Сибирь, Сергей Петрович еще раз увиделся с женой.
«В Пелле я нашел жену мою и брата Александра, княгиню М. Н. Волконкую с сыном. Жена сказала мне, что она завтра же за мной выезжает; мы пробыли часа два и расстались».18
Однако еще в Иркутске, получив оставленное ей письмо мужа, она почувствовала: Сергей Петрович надеется на нее, верит в то, что вдвоем они все «перенесут».
«Ангел мой, я прошу И(вана) Б(огдановича) не отказать мне в милости видеть тебя и обнять тебя пред отправлением моим… Храни себя, обо мне не беспокойся, с помощью божию я все перенесу. Во время пути, я надеюсь, что мне не откажут в утешении писать к тебе и оставлять письма на станциях». 19
И она ждала писем мужа. Она читала их и понимала, что обожаемый муж ждет ее, что ему нужна ее помощь, поддержка. Он уже, вероятно, прибыл на Благодатский рудник, и она всей душой стремилась к нему, потому что безмерно любила этого человека.
Мы же, читая письмо Сергея Петровича, написанное 29 октября уже на Благодатском, постараемся понять, что же это такое – каторга. Трубецкой с Винокуренного завода прибыл на рудник четыре дня назад и только-только постигал законы и условия каторжного существования.
Е. И. Трубецкой. Благодатский рудник. 29 октября 1826 года.
«Милый ангел! Четвертая неделя пошла, что я с тобою разлучился, и вчера только обрадован был известием от тебя, получив письма твои от 10 –го и 14-го. Ангел мой! Если б стал я тебя благодарить за все то, что ты в них пишешь, за всю ту беспредельную любовь твою ко мне, которая в них так сильно («так сильно» вписано поверх строки) изображается и которой уже ты столько подала несомненных доказательств…
Ты права, милый, безутешный друг мой, когда уверена в твердости моей, (…) я буду тверд во всех обстоятельствах… Сверх того, любовь твоя придает мне неимоверные силы…
Здесь находят нужным содержать нас еще строже, нежели мы содержались в крепости; не только отняли у нас все острое до иголки, также бумагу, перья, чернила, карандаши, но даже и все книги и самое священное писание и евангелие. (…) Забыл сказать тебе, что в комнате, в которой я живу, я не могу во весь мой рост установиться, и потому я в ней должен или сидеть на стуле, или лежать на полу, где моя постель. Три человека солдат не спускают глаз с меня». 20
В письме С. П. Трубецкой, кстати, не сообщил жене, что работа на Благодатском руднике шла под землей и он боялся легочного кровотечения, которое было в Петропавловской крепости. В другом письме Сергей Петрович добавил сведения о себе, понимая, что жена очень беспокоилась о его здоровье:
«Я привыкаю действовать молотом, и работа не вредит моему здоровью… Если бы я был без действия, то, конечно, здоровье мое пострадало бы, как от воздуха, так и от нечистоты, в которой я живу… Тебе, друг милый, должно ко многому приготовиться: вообрази, что та бедная хата, в которой мы жили в Николаевском заводе, была бы дворцом в здешнем месте; ты еще не видывала таких тесных, низких и бедных изб, каковы здесь. Кроме того, истинно должна будешь жить в нищете, ибо многих из самых простых потребностей в жизни не достанешь здесь ни за какие деньги». 21
На Благодатском руднике княгиня сняла маленький домик и надеялась на свидания с мужем. Свидания разрешили 10 февраля 1827 года, но проходили они в арестантской камере в присутствии офицера. Жене не разрешили передавать мужу вещи, деньги, бумагу, чернила. Это были горестные свидания. Екатерина Ивановна видела, как похудел, осунулся муж. Она знала, что работа на руднике очень тяжелая, тем более для человека, не привыкшего к физическому труду. Она писала мужу письма, убеждала его, что даже в таких условиях надо заботиться о своем здоровье, но подходила к окну и, кроме крутящихся вихрей снега, ничего не видела. На улицу она старалась не выходить: жестокий мороз, пронизывающий ветер не давали возможности дышать. Было 30 января 1827 года. Как долго она сможет вытерпеть все это? В столицах, в Москве и Петербурге, в разговорах люди ее круга предполагали, что каторга продлится года 2 или 3. Но, похоже, скоро это не кончится, а значит, нельзя расслабляться.
Она снова брала в руки письмо мужа, от которого шло тепло, она чувствовала его нежность, понимала желание скрыть свои трудности.
«Милый ангел мой, ты можешь судить, что произвело во мне сегодняшнее письмо твое; друг мой сердечный, как опишу тебе радость мою? (…) Друг мой, ты все беспокоишься о моем здоровье, поверь мне, друг милый, что, истинно, тебе не о чем беспокоиться. Я, право, совершенно здоров; ты знаешь, я никогда не лгал, и стал ли бы я тебя обманывать? Я тебе обещал не скрывать от тебя, если бы я занемог. А мое нездоровье так было незначаще, что я и не думал, что об нем будут доносить». 22
Жена читала и видела не строки письма, а то, что было между строк. «Нездоровье незначаще» означало, что мужа осматривал врач; «крови же у меня нисколько не вышло» значило, что кашель был сильный, его легкие подземной работы не выдерживали. Иногда наступали минуты отчаяния: сможет ли она хоть чем-то облегчить участь мужа?
К счастью, вскоре по приезде Екатерина Ивановна встретила Марию Николаевну Волконскую, тоже последовавшую за мужем в Сибирь, а в Чите к ним присоединилась и Александра Григорьевна Муравьева, обворожительно красивая и энергичная женщина, и жизнь для них перестала казаться такой уж беспросветной. Три женщины, образованные, каждая по-своему талантливые, активные, решительные и верно, преданно любящие – разве это не победительная сила добра? Если эта сила и не вершила чудеса, то все же помогала преодолеть многие препятствия. Сначала женщины поддерживали своих мужей, но вскоре их помощь распространилась на всех осужденных декабристов. Е. П. Оболенский вспоминал: «…С их прибытием у нас составилась семья. Общие чувства обратились к ним, и их первой заботой были мы же; своими руками шили они нам то, что им казалось необходимым для каждого из нас; остальное покупалось ими в лавках; одним словом, то, что сердце женское угадывает по инстинкту любви, этого источника всего высокого, было ими угадано и исполнено».23 Жены взяли на себя переписку с родственниками, т. к. осужденные не имели права переписки. Они переводили крупные суммы денег, присылаемые родственниками, в артель, и питание декабристов наладилось. Из своих денег женщины покупали одежду тому, кто уж совсем поизносился, в письмах они просили родных людей присылать лекарства, книги. Та жизнь, которую организовали жены декабристов, спасала десятки изнуренных, иногда доходивших до отчаяния ссыльных.
Е. П. Оболенский запомнил много хорошего и доброго из того, что делали жены декабристов, но о некоторых ситуациях написал с юмором. Иной раз Трубецкая и Волконская приносили в казарму «импровизированные блюда, которые иногда не очень у них получались, но были приготовлены от чистого сердца. (…) мы были в восторге, и нам все казалось таким вкусным, что едва ли хлеб, недопеченный княгиней Трубецкой, не показался бы нам вкуснее лучшего произведения первого петербургского булочника».24
Пребывание декабристов в Нерчинских заводах беспокоило правительство: во-первых, на рудниках работали не только «государственные преступники», но и уголовные, и их общение могло иметь непредсказуемые результаты; во-вторых, близко была граница с Китаем; кроме того, начальству не нравилось, что установилось общение осужденных с местным населением. В результате было принято решение перевести заключенных в Читинский острог. В 1827 году произошло переселение. С осужденными каторжниками перебрались на новое место и их жены – Е. И. Трубецкая и М. Н. Волконская. Первой из женщин в Читу приехала А. Г. Муравьева. Позже подъехали невеста декабриста Анненкова П. Гебль, А. И. Давыдова, Н. Д. Фонвизина, Е. П. Нарышкина. Все эти женщины поселились в различных домах недалеко от каземата. Чита в то время представляла собой небольшое поселение с несколькими разбросанными домами.
Как уже вспоминала М. Н. Волконская, для заключенных здесь предназначалась более легкая работа. Они засыпали ров, который называли Чертовой могилой, рыли канавы, работали на мельнице. Трудились три часа утром и два – три часа после обеда. Женщины несли на себе те же обязанности, что и в Благодатском руднике: писали письма родственникам заключенных, поддерживали работу артели, чинили и шили одежду нуждающимся. Мария Николаевна, позже вспоминая этот период жизни, отметила то главное, что определилось к этому времени в характере Екатерины Трубецкой: «Каташа была нетребовательна и всем довольствовалась, хотя выросла в Петербурге, в великолепном доме Лаваля, где ходила по мраморным плитам, принадлежавшим Нерону, приобретенным ее матерью в Риме, – но она любила светские разговоры, была тонкого и острого ума, имела характер мягкий и приятный».25



