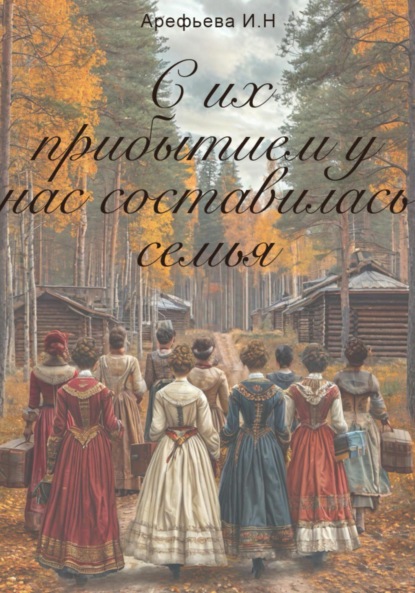
Полная версия:
С их прибытием у нас составилась семья

Ирина Арефьева
С их прибытием у нас составилась семья
В этой книге рассказывается о десяти семьях декабристов – Волконских, Трубецких, Муравьевых, Фонвизиных, Анненковых, Нарышкиных, Давыдовых, Розенах, Ивашевых, Юшневских. О том, как к осужденным на долгие годы каторги и ссылки мужьям приехали через 6000 километров в Сибирь их жены.
На моменте приезда жен декабристов в Сибирь заканчивается фильм В. Мотыля "Звезда пленительного счастья", а в этой книге с этого момента начинается повествование – размышление о том, как эти люди смогли выжить, вынести условия тяжелейшего существования и при этом развить свое человеческое "Я", сохранить семью, воспитать родившихся в Сибири детей и в результате жизни считать себя счастливыми.
Посвящается моей семье, без которой эта книга никогда бы не увидела свет.
Предисловие.
Названием книги стала цитата из воспоминаний декабриста Е.П. Оболенского "С их прибытием у нас составилась семья". Т.е. тема семьи стала главной в книге, и появились 10 повествований о тех семьях декабристов которые около 30 лет отбывали на каторге и в ссылке и с ними неотступно находились их жены, прибывшие в Сибирь, чтобы разделить все трудности с мужьями, спасти их и, как ни странно, сохранить свою семью.
А что такое семья? Это 7-«я». Необязательно именно семь, но несколько человек, объединенных родством, местом проживания, общностью быта, интересами, взаимной помощью. Это, конечно, вольное определение, но для чего нужна семья и нужна ли она вообще – вот что интересно!
Некоторые люди стремятся создать семью, крепкую, дружную, объединенную чувством любви и общими интересами. Другие – утверждают, что сегодня семья изжила себя, что люди, даже любящие друг друга, не должны связывать себя никакими обязательствами. Есть над чем задуматься… Возможно, то, о чем вы прочитаете в этой книге, поможет вам, уважаемый читатель, еще раз серьезно задуматься о семье, о любви, о чувстве долга, о самопожертвовании и, конечно, о счастье.
В этой книге рассказывается о 10 семьях декабристов, о том, как к осужденным на долгие годы каторги и ссылки мужьям поехали через тысячи километров в Сибирь их жены. Многие женщины были из знатных родов, жили в роскоши, но, подумав, поняли, что там, в далеком изгнании, они будут нужны своим мужьям, смогут переложить часть их тяжести на свои плечи, помогут выжить.
Эти 10 семей за годы изгнания прошли не только трудный временной путь, но и путь познания самого себя. Некоторые жены и мужья должны были узнать друг друга – опыта семейной жизни они еще не приобрели. Их браки были заключены примерно пару лет назад. Иные браки были не по любви.
Как же они выживали, как узнавали один другого, как становились не только нужны, но дороги друг другу? Как они создавали свои семьи, как, несмотря ни на что, в результате ощущали себя счастливыми? Об этом и многом другом вы прочитаете в этой книге.
Определив тему своей книги, я прочитала сотни писем декабристов и их жен, ознакомилась с материалами допросов заключенных в Следственном Комитете и воспоминаниями некоторых из них, написанными уже после каторги. Так постепенно собирался материал о 10 семьях декабристов.
Однако пора перейти к первому повествованию.
Повествование первое. Волконские Сергей Григорьевич и Мария Николаевна.
«Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!»
Данте Алигьери. «Божественная комедия».
На допросе в Следственном комитете С. Г. Волконский с достоинством ответил генерал-адъютанту Дибичу, назвавшему его изменником: «Я никогда не был изменником моему Отечеству, которому желал добра, которому служил не из-за денег, не из-за чинов, а по долгу гражданина».
Когда называешь дату – 14 декабря 1825 года – память высвечивает имена гордых, непокорных, свободолюбивых патриотов своей Родины, приговоренных к казни: П. И. Пестеля, С. И. Муравьева-Апостола, М. П. Бестужева-Рюмина, К. Ф. Рылеева, П. П. Каховского. Они искренне желали блага для России, но погибли, не достигнув цели, к которой стремились.
Вспоминаются и другие имена, их десятки: декабристов, осужденных и отправленных в Сибирь, разбросанных по крепостям. Перед глазами встают портреты блестящих офицеров, образованных, стойких, красивых людей, которые еще в начале 19 века мечтали о новой, преображенной России, сбросившей позорные цепи крепостного права, живущей по Конституции, ценящей просвещение, достижения культуры.
Один из них – князь Сергей Григорьевич Волконский. В сибирской ссылке Н. А. Бестужев написал несколько его портретов. На одном из них изображен строгий, серьезный, благородный человек, уже 15 лет отбывающий ссылку. Он не молод, но подтянут, сосредоточен. Не давая себе расслабиться, он верен выбранному пути.
Но почему именно такой выбор сделал князь С. Г. Волконский в решающий момент своей жизни?
Почему за ним, пойдя против воли своей семьи, последовала хрупкая, очаровательная женщина, воспитанная в роскоши, и ни на миг не разочаровалась в своем выборе?
Что в условиях каторги и ссылки спасло не только семью Волконских, но и другие семьи «государственных преступников», как назвал их в гневе Николай I?
Вопросы поставлены, и их возникает все больше и больше, когда знакомишься с этими людьми. Приоткроем книгу судеб, откроем главу на букву «В» и попробуем разобраться в жизненных переплетениях семьи С. Г. Волконского.
Отец Сергея, Григорий Семенович Волконский, был генералом, членом Государственного Совета, но он ушел из жизни в 1824 году, и о будущей судьбе сына ничего знать и даже предполагать не мог. Мать, Александра Николаевна, была из знатного рода Репниных, дочерью фельдмаршала, князя Н. В. Репнина́. Она служила при дворе, была статс-дамой и обер-гофмейстериной и очень гордилась этим. Сергей Волконский сначала получил домашнее воспитание и образование, затем с 14 лет учился в пансионах. Как и многие дворянские дети, прошел службу в армии, в 17 лет стал поручиком в Кавалергардском полку. В Отечественную войну 1812 года находился при Александре I в звании флигель-адъютанта, участвовал в сражениях, был ранен, удостоен чина полковника. В 1813 году стал генерал-майором – в это время ему было 25 лет.1
О таких молодых, удалых генералах написала Марина Цветаева:
Вы, чьи широкие шинелиНапоминали паруса, Чьи шпоры весело звенелиИ голоса.«…»Вам все вершины были малыИ мягок самый черствый хлеб, О молодые генералы Своих судеб.2За войну С. Г. Волконский был награжден орденами Владимира III степени, Георгия IV степени, Анны II степени, Анны I степени и несколькими иностранными наградами.
Этот послужной список многое говорит о деловых качествах С. Волконского и почти ничего не объясняет о нем как о человеке. Но вот, читая его воспоминания, «Записки», которые он начал писать в пожилом возрасте, уже многое пережив и обдумав, вдруг останавливаешься на моменте, где он вспоминает те чувства, которые были испытаны им при получении ордена Св. Анны I класса.
«Наконец скажу и словечко о себе, чтобы высказать, что человек весьма падок к тому, что клонится к его честолюбию. Я, кажется, позабыл сказать, что 15 сентября 1813 года я был произведен в генерал-майоры, а теперь во Франкфурте был пожалован в кавалеры ордена Св. Анны I класса. (…) Не утаю, что получить Аннинскую ленту, едва произведённый в генерал-майоры, я был очень обрадован этим награждением, и чистосердечно сознаюсь в малодушестве своем, а именно, получив ленту около вечера, я так любовался ею, что, ложась спать, ее повесил на стул, поставленный насупротив меня, с тем, чтобы до сомкнутия глаз любоваться ею. Сознаюсь, что это малодушие, но лучше признаться в оном, нежели таить его».3
Этой награды Сергей Григорьевич был удостоен в 25 лет, уже далеко не мальчиком, побывав на Отечественной войне и получив ранение. Но описывал эти события он уже в возрасте 60 лет, однако сколько в этом рассказе искренности, душевной чистоты, которые не исчезли с годами.
Но вернемся к тому, как складывалась дальнейшая жизнь С. Г. Волконского. Кажется, он родился под счастливой звездой, судьба благоволила ему: карьерный рост, быстрое продвижение по служебной лестнице. После войны Сергей Григорьевич остался в армии, был назначен бригадиром 1 бригады 2 уланской дивизии.4
В начале 20-х годов Сергея Волконского увлекла иная стезя, но об этом чуть позже.
В 1825 году Волконскому было уже 36 лет. Давно пора было обзавестись семьей. Но женщины, которую бы он любил, рядом не было. Выбор пал на Марию Николаевну Раевскую, о которой ему много хорошего рассказывал его друг Михаил Орлов, женатый на сестре Марии – Екатерине Раевской. Друзья решили породниться, но Сергей Волконский, зная, что отец Марии Николаевны, герой Отечественной войны, генерал Николай Николаевич Раевский, человек решительный и суровый, не посмел сразу обратиться к такому человеку и посватался через своего друга Михаила. Отец Марии посчитал эту партию блестящей, но решил, что спутника жизни должна все-таки выбрать дочь сама.
Марии в это время было 20 лет, одному из претендентов на ее руку отец недавно отказал. Сергея Волконского она не знала, лишь мельком видела несколько раз. Она не любила его, даже не была им увлечена, но на брак согласилась.
Сергей Григорьевич был старше невесты на 16 лет, но выглядел великолепно. Каким увидела его Мария? Высокий, стройный, красивый, герой войны, к тому же из знатного, состоятельно семейства – какая девушка откажется от такого жениха!
А какой предстала перед Сергеем Мария? Высокая, смуглая, черноволосая, обаятельная девушка. Это были первые впечатления. Душевного порыва у них не возникло, но причин отказываться от брака тоже не было.
Мария получила хорошее домашнее воспитание: она училась музыке, считалась талантливой пианисткой, кроме того, имела красивый певческий голос. Она знала французский и английский языки, любила книги и много читала. По тому времени была довольно образованной барышней. Известно, что А. С. Пушкин, бывая в семье Раевских, особенно в период южной ссылки, часто виделся с Марией Николаевной то в Одессе, то в Киеве, то в Каменке. Ему нравилась эта юная прелестная девушка, возможно, он был тайно влюблен в нее. Известно, что некоторые стихи он посвятил ей. В стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом» есть такие строки:
Одна была, – пред ней однойДышал я чистым упоеньемЛюбви поэзии святой.Там, там, где тень, где лист чудесный, Где льются вечные струи, Я находи огонь небесный, Сгорая жаждою любви.Считается, что эти строки посвящены Марии Раевской, однако Александр Сергеевич любовался всеми дочками Николая Николаевича, а их было четыре, и ни в одном стихотворении не назвал имени той девушки, которой тогда был не на шутку увлечен.
Если в свои 20 лет Мария Николаевна только готовилась к самостоятельной жизни, то Сергей Григорьевич уже был человеком сложившимся, с большим жизненным опытом, высокообразованным, многого достигшим.
Кажется, они были совершенно разными. Однако С. Г. Волконский приехал в Киев, где и состоялась 5 октября 1824 года помолвка, а 11 января 1825 года свадьба. Позже в «Воспоминаниях» Мария Николаевна Волконская написала об этом значимом событии в своей жизни, но очень кратко.
Волконская вспоминала: «…я вышла замуж в 1825 году за князя Сергея Григорьевича Волконского, вашего отца, достойнейшего и благороднейшего из людей, мои родители думали, что обеспечили мне блестящую по светским воззрениям будущность».5 Она не описала ни предсвадебных волнений, ни ожидания счастья – со временем все это уже не казалось ей главным. Однако оценка мужа как благороднейшего человека с годами стала для нее определяющей.
После свадьбы муж и жена вместе прожили три месяца, и их отношения складывались трудно. Марии казалось, что муж резок, грубоват с ней. А он стремился поскорее уехать в армию. Кроме службы, там ждали его дела, о которых жене было знать не положено.
Молодая женщина тосковала без мужа, ведь она уже ждала ребенка и хотела быть рядом с Сергеем. В одном из писем Мария обращалась к нему:
«…Мой милый, мой обожаемый, мой кумир Серж! Заклинаю тебя всем, что у тебя есть самого дорогого, сделать все, чтобы я могла приехать к тебе, если решено, что ты должен остаться на своем посту». 6
Несмотря на искреннее, с первого взгляда, обращение, в глаза бросается фраза «мой кумир Серж» – чисто книжный оборот из любовного романа того времени. Чего-то недостает в этом письме?
Мария Николаевна была уверена, что служба мужа не дает возможности быть им вместе, но дело было в другом: она еще многого не знала о своем супруге. Сергей Волконский в 1819 году вступил в Союз Благоденствия и был занят делами тайного общества. С 1823 года он вместе с В. Л. Давыдовым возглавлял Каменскую управу Южного общества, осуществлял связь с Северным обществом. Известия о восстании на Сенатской площади дошли до него, когда он находился во 2 армии на юге Российской Империи. Однако 5 января 1826 года Сергей Григорьевич был арестован, доставлен в Петропавловскую крепость и заключен в камеру № 4 Алексеевского равелина.
О чем думал Сергей Волконский, что было в душе этого человека, когда он оказался в камере? Конечно, он думал о родных людях, с болью представлял себе, как весть о его аресте ударит по ним. Тайно, через караульного, он передает записку своей сестре, Софье Григорьевне.
«Ma chere Sophie, дорогая сестра моя. Я очень тревожусь, не имея о вас никаких известий. Любая весть о тебе и моей обожаемой Marie была бы драгоценной для меня. Я надеюсь покорно и достойно встретить уготованное мне Господом и прошу лишь об утешении моей дорогой жены в ее горе. Поручаю ее твоим заботам. (…) Сергей». 7
Из переданных записок видно – Сергей Григорьевич понимает, что ему может грозить, но его сестра София в ответном письме волнуется о том, что в камерах темно и сыро, что с заключенными «дурно обращаются». Она даже не представляет себе, какая судьба ожидает брата.
Мать Сергея, Александра Николаевна, находящаяся при императрице Марии Федоровне, в письмах к сыну просила его быть покорным и раскаяться.
«… от материнского моего благословения я тебя лишить не в силах никогда, а прошу слезно Бога о твоем чистом и сердечном раскаянии пред мной и пред Господом (…) Откровенно признайся во всем Государю и твоим чистым раскаянием перед ним возврати мне, твоей несчастной матери, в тебе сына утешительного». 8
В эти же дни, 2 января, Мария Николаевна родила сына, которого назвали Николаем. Родные об аресте мужа ничего ей не сказали, однако плохие вести распространяются быстро. Узнав о заключении мужа в Петропавловскую крепость, она передала ему письмо:
«Я узнала о твоем аресте, милый друг. Я не позволяю себе отчаиваться. Какова бы ни была твоя судьба, я ее разделю с тобой, я последую за тобой в Сибирь, на край света». 9
В тоне этого письма нет колебаний. Но она здесь просто верная жена, готовая разделить судьбу мужа.
Еще одна записка от Сергея Волконского помогает лучше понять, каким был этот человек, по каким правилам жил, какие принципы были для него незыблемыми.
«Ma chere ami Sophie, прости мне небрежность моей записки. Я даже не знаю, получишь ли ты ее – из твоих ответов я вижу, что ты не получаешь моих писем, кроме того одного, что было послано через официальное разрешение. Благодарю тебя, дорогой друг мой, за участие в моей судьбе. Мне было даровано свидание с моей обожаемой Marie. Она уверила меня, что последует за мной, если меня приговорят к каторге. Не знаю, имею ли я право на такое утешение, хотя не могу не желать его всем сердцем. Береги себя, моя дорогая сестра, и будем мужественны. Даже когда нас лишают прав дворянства, его обязанности нам остаются». 10
Сергей Волконский пишет записки из тюрьмы на любых клочках бумаги, но на этих клочках оказываются очень важные сведения о нем самом. Говоря о лишении его дворянства, он не жалеет о потере привилегий, но уточняет важное для него: «обязанности нам остаются».
Одной из обязанностей Сергея Григорьевича Волконского, мужа и отца, было позаботиться о жене и сыне. До отъезда в ссылку он отправил на имя генерал-лейтенанта А. Х. Бенкендорфа «Завещание».
Своему сыну он завещал два имения: Нижегородское и в Черниговской губернии, «чтобы до его совершеннолетия управлялись они его братом Н. Г. Репниным», «с выделением положенной части М. Н. Волконской», ей же был завещан дом в Одессе и там же земельные угодья.
С. Г. Волконский, которого допрашивали в Следственном комитете, на вопросы отвечал подробно, своего участия в делах тайного общества не скрывал.
В «Алфавите членам бывших злоумышленных тайных обществах» отмечены все этапы его деятельности, активное участие в работе по объединению Южного и Северного обществ; однако отмечен и его отказ принять участие в «злоумышлении при Бобруйске в 1823 (году)» и позже, т.е. Сергей Григорьевич был против истребления царской фамилии.11
Арестованные, находящиеся под следствием, и их родственники с тревогой ожидали решения Верховного суда. Первоначально Сергей Григорьевич Волконский в числе 31 «государственного преступника первого разряда» был приговорен к смертной казни «отсечением головы», затем приговор был смягчен: его приговорили к лишению чинов и дворянства и к ссылке в каторжную работу на 20 лет. Вскоре срок каторги был сокращен до 15 лет с последующим поселением в Сибири.
Позже С. Г. Волконский рассказал жене, а она подробно описала его переход к каторжной жизни: «Вот как это произошло: 13 июля, на заре, их всех собрали и разместили по категориям на гласисе против пяти виселиц. Сергей, как только пришел, снял с себя военный сюртук и бросил его в костер: он не хотел, чтобы его сорвали с него (…), затем им всем приказали встать на колени, причем жандармы подходили и переламывали саблю над головой каждого в знак разжалования.» Это был акт гражданской казни. В крепости осужденные получили одежду каторжников – «куртку и штаны грубого серого сукна».12
Когда представляешь себе мучительную, оскорбительную процедуру этой казни и подготовки заключенных к долгой, тяжелой ссылке и каторге, вдруг ясно понимаешь, что судить декабристов все же будет не Государь, не члены суда, не жандармы, а время. Жестокая судьба выдающихся людей останется в памяти потомков примерами мужества, благородства, силы воли, способности все выдержать и не смириться. А имена тех, кто их казнил, бесславно растворились во времени.
Их память на земле невоскресима;От них и суд, и милость отошли.Они не стоят слов: взгляни – и мимо.Данте Алигьери не сомневался: каждый из живущих в результате получит по заслугам.
В этот же день, 13 июля 1826 года, на Кронверке Петропавловской крепости были казнены пятеро декабристов, приговоренных к повешению: П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, П. П. Каховский. И в Москве, и в Петербурге не верили, что эта страшная казнь состоится. Государь Николай I, которого ни одна пуля не тронула на Сенатской площади, стал убийцей этих людей. Такое иногда случается в истории…
Декабрист Александр Поджио, отбывавший ссылку в Сибири, друживший с семьей Волконских, в «Записках», написанных после отбытия ссылки, размышлял о причинах той жестокости, с которой Николай I и судьи расправились с людьми, желавшими блага для России.
«И каким образом все эти судьи, зародившиеся при Екатерине и возникшие при Александре, не были проникнуты духом кротости этих двух царствований, чтобы так скоро, внезапно отказаться от всего прошедшего и броситься, очертя голову, в пропасть казней и преследований! Каким образом решились они так быстро, необдуманно перейти ту черту, так резко отделявшую правление милосердное, человеколюбивое от правления жестокого, бесчеловечного! Скажите, где и когда они видели во всю свою долголетнюю жизнь и эти виселицы, и эти каторги в таком числе и таком размере?»
«Власть при Александре хотя была и дремлющая, но при Николае она сделалась притеснительною и, достигши до высшей степени своевластия, она тяжко и непробудно залегла смертным гнетом на все мыслящее в России!»13
Примерно о том же написал С. П. Трубецкой в статьях «Мысли об истекшем тридцатилетии в России», «Записках».
Трудно представить себе, как озвученный приговор приняли родственники осужденных, как перенесли мать, сестры, братья Сергея Волконского известие о ссылке в Сибирь.
Александра Николаевна надеялась на свое влияние при дворе, на поддержку императрицы. Она посылала прошения государю Николаю I с просьбами о сокращении срока каторги, ведь сын был ранен на войне и здоровья крепкого не имел. Но письма государю с просьбами о милости никакого результата не принесли.
Мария Николаевна, ожидая приговора, была готова ко всему. Когда узнала, что мужу оставлена жизнь, поняла – это главное. Решение следовать за мужем в Сибирь возникло мгновенно. Она знала, что Екатерина Ивановна Трубецкая сразу после отправки арестантов к месту каторги последует за ними, и готова была тоже ехать в Сибирь.
Но на руках молодой матери был маленький сын. Надо было получить согласие на поездку у родных, которые возьмут на себя воспитание ребенка; надо было отправить прошение государю.
Мария сообщила о своем решении отцу и матери. Все члены семьи встретили это сообщение с неодобрением. Ее убеждали, что долг матери – растить сына. Она же видела, что сына ее все любят и лелеют, о нем есть кому позаботиться, а вот муж будет находиться в условиях каторжного существования, ему потребуется ее помощь и поддержка.
Мать Марии, Софья Алексеевна, не желала слушать никаких доводов дочери. По характеру неуравновешенная, вспыльчивая, она запрещала ей даже думать о поездке в Сибирь.
И все же труднее всего смириться с отъездом дочери было ее отцу, Николаю Николаевичу Раевскому. Он был героем на войне, с сыновьями своими храбро выходил навстречу наступавшим врагам. Поэт В. А. Жуковский посвятил ему стихи:
Раевский, слава наших дней,Хвала! Перед рядамиОн первый грудь против мечейС отважными сынами.(«Певец во стане русских воинов»)Однако мужественный Николай Николаевич не мог представить себе, как его юная дочь в Сибири, в глуши станет жить рядом с каторжниками. Он рассказывал ей о тюрьме, о жизни в каземате, но понимал, если она решила, ничто уже не сможет изменить ее решения разделить с мужем тяжесть ссылки.
Мария Николаевна в это время не понимала политических взглядов Сергея Григорьевича. В юности, в своем доме она видела свободолюбивых, передовых людей, которые приходили к ее отцу. Она слышала их страстные речи, но согласна с ними не была. Она считала, что муж ошибся, что его увлекли, что он запутался. Она ехала в Сибирь, чтобы поддержать любимого человека, мужа, а не декабриста. Она исполняла свой долг быть рядом с мужем и в горе, и в радости.
Вы спросите: и где же здесь счастье? Счастья действительно пока не было. Они и друг друга еще едва знали. Счастье приходит тогда, когда приходит любовь, а они еще стояли только на пороге любви.
Конечно, ее мысли были не только о муже, но и о ребенке, маленьком Николеньке. Иногда она успокаивала себя тем, что съездит к Сергею на год, на это был согласен и ее отец, который предупредил: «Я тебя прокляну, если ты через год не вернешься.» Однако в глубине души Мария Николаевна понимала, что уезжает навсегда – где будет находиться ее муж, там будет и она.
15 декабря Мария Волконская обратилась к Императору с просьбой разрешить ей выехать в Сибирь. 21 декабря, получив разрешение, она поспешила уехать. Оставив ребенка свекрови, она на два дня заехала в Москву и остановилась у сестры мужа, Зинаиды Александровны Волконской. Та устроила для нее прощальный музыкальный вечер, собрала музыкантов и гостей. Но Марии было не до веселья – она уже была мысленно готова к преодолению трудного пути.
Один из гостей, поэт А. В. Веневитинов, на всю жизнь запомнил эту встречу: «Я видел во второй раз и еще более узнал несчастную княгиню Марью Волконскую, коей муж сослан в Сибирь и которая 6 января сама отправляется в путь за ним. (…) Так рано обреченная жертва кручины, эта интересная и вместе могучая женщина – больше своего несчастья. Она его преодолела, выплакала, источник слез уже иссяк в ней. Она уже уверилась в своей судьбе и, решившись всегда носить ужасное бремя горести на сердце, по-видимому, успокоилась (…) Она теперь будет жить в мире, созданном ею собою. Во вдохновении своем, она сама избрала свою судьбу и без страха глядит в будущее».14



