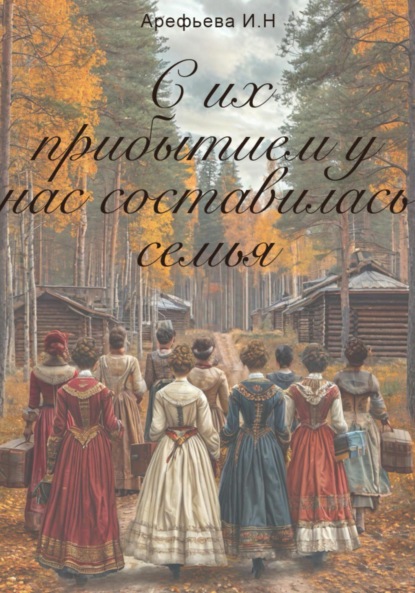
Полная версия:
С их прибытием у нас составилась семья
Как удивительно чутко и точно поэт понял душевное состояние этой сильной, решительной и в то же время слабой и страдающей женщины.
Из Москвы Мария Николаевна выехала в последних числах декабря и через Казань направилась в Иркутск. Сопровождали ее горничная Марья и лакей Ефим, крепостные люди, добровольно согласившиеся следовать за своей госпожой.
По заснеженным дорогам России неслись две кибитки – вещи и передачи осужденным в одной не поместились. Не будем даже в воображении пытаться воссоздавать этот путь – не испытав на себе, представить его трудности невозможно.
Однако уже 21 января, т. е. за двадцать четыре дня, Мария Волконская доехала до Иркутска. Здесь губернатору удалось задержать ее только на неделю. Екатерину Ивановну Трубецкую губернатор держал уже четыре месяца. Мария Николаевна, не задумываясь, подписала все бумаги, по которым она лишалась прав и дворянских привилегий. Далее, сменив 2 кибитки на перекладные телеги, на которых по снегу и льду ехать было быстрее, хоть и менее удобно, мужественная женщина добралась до Благодатского рудника.
Остановившись вместе с Екатериной Трубецкой в бедной и тесной избе, она поспешила ответить на первые письма, присланные ей родными.
«Только что, милая и добрая матушка, я получила ваше письмо от 26 января (1827 г.) Вы, по-видимому, беспокоитесь насчет препятствий, которые я встретила при отъезде из Иркутска; будьте уверены, что (…) то единственное утешение, какое осталось мне на земле, – разделять участь моего мужа, и потеря титулов и богатства – для меня, конечно, не потеря. На что бы все это было мне нужно без Сергея, на что бы мне жизнь вдали от него?»15
На Благодатском руднике Мария Николаевна не раз вспоминала слова отца, убеждавшего ее, что сибирская каторга – это страшное место, это бедное, убогое жилье, в котором ютится местное население, это жестокие нравы каторжников, измученных тяжким трудом. И вот он, Нерчинский рудник, который она увидела своими глазами: «Это была деревня, состоящая из одной улицы, окруженная горами, более или менее изрытыми раскопками, которые там производились для добывания свинца, содержащего в себе серебряную руду. Местоположение было бы красиво, если бы не вырубили на 50 верст кругом лесов из опасения, чтобы беглые каторжники в них не скрывались: даже кустарники были вырублены; зимою вид был унылый».16 Представим себе эту вырубленную и утопающую в глубоком снегу пустынную местность. Каково было там, особенно на первых порах, двум молодым женщинам, воспитанным в роскоши, привыкшим к легкой, беззаботной жизни?
Мария Николаевна навсегда запомнила маленькие покосившиеся хибарки, и «страшную бедность» местного населения.
Деньги, взятые с собой в дорогу, отчасти были сданы коменданту, отчасти розданы особо нуждающимся. Декабрист А.Е. Розен в «Воспоминаниях» обратил внимание на то, что Волконская и Трубецкая зимой 1826–27 годов «терпели от холода и голода, что они сами стирали белье, мыли полы, питались хлебом и квасом.» Об этом периоде написала в «Записках…» и М. Н. Волконская: «Мы ограничили свою пищу: суп и каша – вот наш обыденный стол; ужин отменили. Каташа, привыкшая к изысканной кухне отца, ела кусок черного хлеба и запивала его квасом».17 Вероятно, отправляясь в Сибирь, такую жизнь ни одна, ни другая даже представить себе не могли.
Путь на каторгу Сергея Григорьевича был не менее трудным, чем у Марии Николаевны, но он был готов к нему, понимал, что ожидает его впереди. Отправлен в Сибирь он был 23 июля 1826 года, из Иркутска его переправили на винокуренный завод, а затем с октября 1826 года он выполнял работу на Благодатском руднике. Рядом с ним трудились С. П. Трубецкой, Е. П. Оболенский, А. З. Муравьев, В. Л. Давыдов, А. И. Якубович, братья А. И. и П. И. Борисовы – осужденные по I разряду. То есть те, кого суд посчитал руководителями, организаторами восстания и активными членами тайных организаций.
Заключенные работали в шахте, вырубали руду под землей. Рабочий день длился с 5 часов утра и до 11 часов, затем с 15 до 17 часов. Через некоторое время их перевели на поверхность разбирать, сортировать и складывать куски руды. Работа была физически тяжелой для заключенных, несмотря на то, что многие были из офицерской среды, т. е. людьми, привыкшими к кочевой и военной жизни. Однако каторжная работа была однообразной, беспросветной – все работающие находились под усиленным надзором охраны.
Там, на руднике, Мария Николаевна получила свидание с мужем, увидела, в каких условиях пребывали заключенные. Помещения, в которых они находились, были тесные, дышать в этих «палатах» было нечем.
Поделиться своим отчаянием бедной женщине было не с кем, муж Екатерины Ивановны Трубецкой находился в таких же условиях. И Мария Волконская начинает писать письма, десятки, сотни писем из Сибири родным и близким людям. К счастью, некоторые из них сохранились. Письма – это и крик души, и попытка разобраться в своих чувствах, и надежда хоть кем-то быть услышанной. Ответные послания шли не менее трех месяцев, поэтому если с очередной почтой письма не приходили, она не знала, что и думать: здоров ли ее маленький сын; как чувствует себя болевшая Софья, сестра ее мужа; вспоминают ли они их, живущих в засыпанной снегом Сибири? В каждом письме Марии Николаевны тревога за мужа и никаких жалоб на трудности своей жизни. От письма к письму раскрывается характер этой удивительной женщины, способной перенести иногда непереносимые трудности.
Это письмо было написано 12 февраля 1827 года:
«Милая и добрая матушка. Я наконец водворена в той самой деревне, где мой обожаемый Сергей; это важно, и тем не менее мое сердце не удовлетворено. Прежде всего, не могу не передать вам, как худо и как болезненно выглядит мой бедный муж. Его здоровье меня беспокоит, ему нужны все мои заботы, а я не могу отдать их ему. Нет, я не оставлю его, пока его участь не будет значительно облегчена. (…) Как ни тяжелы для моего сердца условия, которыми обставили мое пребывание здесь, – я подчиняюсь им с щепетильной аккуратностью». 18
Письмо от 26 марта 1827 года тоже полно беспокойством о здоровье мужа:
«Его нервы последнее время совершенно расстроены и улучшение (…) было лишь кратковременным, потому что его грудные боли возобновились с еще большей силой. Милая матушка, хоть он и старается скрыть от меня свои страдания, мне было достаточно увидеть его дважды на прошлой неделе, чтобы составить себе ясное представление о них. Судите-ка, что я должна чувствовать, не имея возможности сама ухаживать за ним». 19
Письма от Александры Николаевны, матери Сергея Волконского, которую Мария Волконская называет матушкой, приходили нерегулярно, а иногда и вовсе пропадали в пути. Чтобы понять, на какое письмо пришел ответ, решено было их нумеровать.
Это фрагменты из писем от 21 мая и 2 сентября 1827 года:
«…Положение, в котором я оставила мою сестру и моего бедного ребенка, беспокоит и мучит меня до такой степени, что я не в силах выразить это. (…) Здоровье Сергея по-прежнему довольно хорошо, милая матушка, дай Бог, чтобы и впредь было так же. Вы – единственный предмет его мыслей и разговоров; огорчения, которые он вам причиняет, мучают его больше всего».
В письме, написанном 30 апреля 1827 г., – буря чувств. Шесть недель – и ни одного письма от Александры Николаевны.
«… вы понимаете, милая и добрая матушка, что мое беспокойство о вас, о моем сыне и обо всех ваших дошло до крайнего предела, и Сергей делит мою пытку. (…) В своих предыдущих письмах к вам и к сестре Софье я подробно сообщала вам о здоровье моего бедного Сергея; оно все в таком же положении, то лучше, то хуже. Я была у него сегодня утром; нынче – один из его хороших дней; он выглядел получше, не жаловался, и голос его значительно окреп. Облегчать его душевные страдания – долг сладкий моему сердцу, и будьте уверены – это цель моей жизни». 20
В это время Марии Николаевне всего 22 года – она молода, хороша собой. Всего два года замужем, всего годик ее сыну Николеньке. Заброшенная судьбой в Сибирь, без писем от родных, без известий о сыне… Что же в это время давало ей силы все переносить: и нездоровье мужа, и ужасные бытовые условия, и разлуку со всеми родными людьми?
Она четко определила для себя главное: находиться рядом с мужем, облегчать его страдания, забыв о страданиях своих – это ее долг. В этом выразилась ее русская душа. Она не любила Сергея Волконского пылкой любовью. Но она до боли сердечной жалела его. А разве жалость – не составляющая любви?
Более полугода прошло с того дня, когда Мария Николаевна прибыла в Благодатский рудник. Здоровье мужа за прошедшее лето улучшилось. Редкие, но периодичные свидания – раз в три дня – стали необходимыми в их жизни.
«…как ни редки и как ни стеснены эти свидания, они много облегчают наши страдания. Подле Сергея я счастлива, но не видя его, я чувствую себя невыразимо одинокой». 22
И все же Мария Николаевна не давала себе впасть в уныние. Она ехала сюда спасать мужа. В своих «Воспоминаниях» она привела выдержки из отчетов тюремных надзирателей о поведении и состоянии здоровья заключенных. Так, в декабре 1826 года, когда Мария Николаевна только приехала к мужу, сделана такая запись:
«Сергей Трубецкой одержим грудною и внутреннею болезнью, как кажется, чахоткою, одержим кровохарканьем, чувствует великую тяжесть в груди».
А вот запись 16 февраля 1827 года, прошло четыре месяца со дня ее приезда:
«Сергей Трубецкой и Сергей Волконский – с приездом жен – сделались приметно веселыми». В марте 1827 года записано: «Сергей Трубецкой и Сергей Волконский навыкают к роду нынешней жизни, больше бывают спокойны, но Волконский, по слабому здоровью, чаще задумчив».23
О чем же мог думать в немногие свободные минуты в недавнем прошлом князь, в недавнем прошлом генерал, потерявший титул, дворянские привилегии, звание? Теперь он имел темную, грязную «палату», каторжную работу. Его жена, покинувшая уютный родной дом, постоянно терпела неудобства быта. И самое страшное, что вдали от них умер их первенец, Николенька.
Стоило ли одно другого?
Он мысленно произнес: «…ни от одного слова и сейчас не откажусь». От этих слов он не откажется в течение всей жизни.
Нерчинский период ссылки был самым трудным для всех заключенных. Утром и днем, работая под землей, они хотя бы могли дышать, выпрямляться, шевелить руками, но вечером, входя в темные казематы – это были чуланы, разделенные дощатой перегородкой, – заключенные не могли даже стоять. Надо было или сидеть, или лежать
Мария Николаевна, проехавшая 6 тысяч верст, чтобы быть рядом с мужем, жила вместе с Екатериной Ивановной Трубецкой в тесной избе и получала разрешение видеться с мужем два раза в неделю в присутствии офицера и унтер-офицера. Это был их третий год совместной жизни.
Кажется, какая тут семья… Даже встречи Сергея и Марии были мукой для обоих. Но они ждали этих коротких свиданий. Мария заботливо оглядывала мужа – как он, похудел, истощен, болен? Нет, не похудел, не болен, наоборот, кажется здоровей, чем прежде. Девять месяцев жизни на Нерчинских рудниках показали: даже в таких условиях можно выжить, если хочешь жить.
В декабре 1827 года Мария Николаевна написала в письме к сестре Сергея Григорьевича:
«Пишу вам, милая сестрица. Чтобы сообщить вам о Сергее, который был очень счастлив, узнав о быстром ходе вашего выздоровления. Одно только его огорчило (…) эпитет «бедная», который прилагает ко мне его племянница. Могу вас уверить, милая сестра, это слово вовсе не подходит ко мне: я совершенно счастлива, находясь подле Сергея. Я горда мыслью, что принадлежу ему, он образец покорности и твердости. Его здоровье по-прежнему хорошо, он прилежно ходит на работу – это лучше всего доказывает вам, что его силы восстановились. Что до меня, то я привыкла к своему положению, веду деятельную и трудовую жизнь. Я нахожу, что нет ничего лучше, нежели работа рук, она так хорошо усыпляет ум, что никакая печальная мысль не мучит человека, тогда как чтение непременно приводит на память прошлое».24
Это письмо было написано уже из Читы. Читинский период – это был новый этап испытаний для декабристов и их жен. Заключенные прибыли туда в конце сентября 1827 года. Читу описали в своих воспоминаниях многие осужденные. Н. А. Бестужев создал несколько акварелей, одну из которых он назвал «Главная улица Читы». В этом был горький юмор, потому что улиц в этом селении не было вообще. Михаил Бестужев вспоминал: «В эпоху прибытия нашего в Читу это была маленькая деревушка заводского ведомства, состоящая из нескольких полуразрушенных хат».25 Полина Анненкова насчитала в этом селе 18 домов, но это уже было несколько позже.
Для размещения первой партии были выделены два частных дома, которые назвали «малыми казематами». Вскоре был достроен вместительный каземат «большой». Строения были обнесены высоким забором. Позже на тюремном дворе были построены мастерские и лазарет. Осужденные располагались в отведенных домах на нарах, расставленных по стенам. В каждой комнате находился часовой и двое конвойных.
Работали на улице: чистили конюшни, вывозили навоз, рыли канавы, рубили мерзлую землю под фундаменты домов. Долгое время засыпали котлован, который называли «Чертова могила».26
Осужденные трудились с 6 часов утра до 9 часов и с 17 до 19 часов. Эта работа была значительно легче той, что была на рудниках. Все мужчины были физически сильными. Сергей Григорьевич Волконский, несмотря на ноющие раны, постепенно, как и другие, привыкал к тяжелой каторжной работе, но спокоен не был: что-то ложилось тяжестью на душу. Тяжким было бессмысленное существование, нерастраченные умственные возможности и слабая надежда на избавление – вот что делало жизнь мрачной, бесцельной, беспросветной.
Эти чувства переживал не один Волконский. Рядом жили и трудились такие же, как он, образованные, благородные, достойные люди.
Для заключенных в Сибирском остроге, удачным для их выживания, оказалось то, что они не были одиноки. Рядом с каждым из них отбывали срок каторги люди их бывшего круга общения. В недавнем прошлом они встречались в театрах, светских гостиных. Сергей Григорьевич некоторых знал по службе в армии, с другими общался в Москве, Петербурге, Каменке. Так, в тюрьме, в заключении создавалась общность людей, объединенных едиными взглядами, одинаковыми условиями существования, и это помогало им в трудные минуты.
Сейчас они были жестоко наказаны, но не за преступление, а за правое по своей сути дело. В этом они были убеждены.
Е. П. Оболенский позже об этом написал: «Большое утешение было для нас то, что мы были вместе, тот же круг, в котором мы привыкли, в продолжение стольких лет, меняться мыслями и чувствами, перенесен был из петербургских палат в нашу убогую казарму; все более и более мы сближались, и общее горе скрепило еще более узы дружбы, нас соединившей».27
Как видим, заключенных на каторге спасали укрепляющиеся «узы дружбы», взгляды на жизнь, объединявшие их. Общее горе и общие радости – все это помогло сначала выжить, а затем – жить дальше. Спасали, конечно, приехавшие в Сибирь жены. Спасали своим участием, вниманием, искренним желанием помочь каждому.
Кроме Марии Николаевны Волконской и Екатерины Ивановны Трубецкой, которые были первыми и вместе с мужьями прошли самый трудный период работы на Благодатском руднике, в феврале 1827 года в Читу прибыла Александра Григорьевна Муравьева, затем – Елизавета Нарышкина, в марте – Полина Гёбль. Постепенно приехали еще 6 жен осужденных.
Их приезд изменил саму обстановку жизни. Мария Николаевна Волконская и другие жены, получавшие помощь от родных людей, старались, насколько можно, благоустроить свое жилище. Общими усилиями они добились, чтобы с осужденных были сняты цепи и кандалы. Ведь декабристы, вопреки закону, были закованы до 1828 года. В Чите установилась переписка заключенных с родственниками – написание писем и их отправку взяли на себя женщины.
Чтобы как-то украсить тюремный двор, женщины упросили коменданта О. А. Лепарского разрешить им разбить клумбы и посадить растения – цветы расцвели через год после переезда в Читинский острог.
Однако исправить сибирский климат женщины были не в силах. Суровые зимы затрудняли общение заключенных с их женами.
20 декабря 1827 года Мария Николаевна написала Софье Григорьевне:
«Пишу вам на адрес матушки, милая сестра, чтобы заодно сообщить вам обеим о Сергее. Его здоровье сейчас довольно хорошо, но стоящие здесь ужасные морозы не могут не повлиять на его состояние; уже более двух месяцев у нас от 30 до 36 градусов холода. Со времени вашего отъезда в Италию вы пишете довольно неисправно… Я умею ценить вашу неизменную дружбу к Сергею, потому-то я и прошу вас писать ему». 28
Сибирские морозы и итальянское солнце… Мария Николаевна писала письмо и понимала: и свекрови, и сестре мужа не представить себе, в каких условиях находились они с Сергеем. Задержка отправки письма из Италии была для них так несущественна, когда воздух напоен запахом цветов, когда так приятно любоваться мерцающим морем, когда легкий ветерок шевелит прозрачный шарфик на плечах у женщин.
Здесь же, в Сибири, в некоторые морозные дни невозможно было выйти на улицу: перехватывало дыхание, индевели ресницы, лицо надо было закутывать теплым платком.
Вздохнув, Мария Волконская опять садилась за письма…
«Что вам сказать о нашей угрюмой Сибири? Из-за сильных морозов я вижусь со своими подругами реже, чем хотела бы. С Катей и госпожой Ентальцевой мы всегда вместе, так как ведем общее хозяйство, мы по очереди стряпаем. Господь точно создал нас для нашего нынешнего положения- мы освоились с ним как нельзя лучше. Так как я никогда не вижу вещей в черном свете, то чувствую себя несчастною только тогда, когда здоровье Сергея слабеет; и если бы мне разрешили разделять его заключение, иметь при себе моего сына и посвящать им мою жизнь, я была бы счастливейшей женщиной». 29
(Супруги Ентальцевы находились в Чите в течение одного года, затем отбыли на поселение).
Из писем свекрови Мария Николаевна знала, что сынок ее Николенька болел, затем пошел на поправку. Она не сомневалась, что в доме Александры Николаевны за малышом организован уход, что его все любят, но горе было в том, что она сама не имела возможности наблюдать за тем, как он растет, изменяется каждую неделю, месяц – так невозможно далеко от нее он находился.
Перед самым отъездом, в последние недели пребывания во Петербурге, М. Н. Волконская заказала художнику портрет, на котором он должен был изобразить ее с десятимесячным сыном Николаем на руках. Портрет был заказан в двух экземплярах. Один из них Мария Николаевна привезла мужу в Сибирь.
В 1828 году Николенька умер. А. С. Пушкин написал «На смерть младенца Волконского»:
В сиянии и в радостном покоеУ трона вечного ТворцаС улыбкой он глядит в изгнание земное, Благословляет мать и молит за отца.Николай Николаевич Раевский написал дочери:
«Хотя письмо мое, друг мой Машенька, несколько заставит тебя поплакать, но эти слезы будут не без удовольствия: посылаю тебе надпись надгробную сыну твоему, сделанную Пушкиным (…) Это будет вырезано на мраморной доске».30
М. Н. Волконская ответила отцу:
«Я читала и перечитывала, дорогой папа, эпитафию моему дорогому ангелочку. Она прекрасна, сжата, полна мыслей, за которыми слышится столько многое. Как же я должна быть благодарна автору: дорогой папа, возьмите на себя труд выразить ему мою признательность». 31
Только оправившись от одного горя, Волконские встретили другое. В сентябре 1829 года ушел из жизни Николай Николаевич Раевский. Он очень любил Марию Николаевну, уговаривал ее не ездить в Сибирь, был рассержен, когда она не прислушалась к его словам.
Находясь вдали от дочери, он, к сожалению, не успел узнать о ней все, что постепенно, с каждым годом накапливалось и раскрывалось в его любимице. Однако он понял, почувствовал главное, что уже было тогда в ней. Умирая и думая о дочери, он произнес: «Вот самая замечательная женщина из всех, которых я когда-либо знал».
Свалившиеся на них трагедии Сергей Григорьевич и Мария Николаевна переживали вместе, помогая друг другу справляться с несчастьями. Сергей Григорьевич был сильнее. Жена увидела в муже человека сильной воли, гордого, несломленного – и это вызывало в ней не только уважение к нему. Любовь к мужу становилась для нее частью существования, жизнь наполнялась иным смыслом.
Именно в Чите Мария Николаевна почувствовала, что нужна мужу. Она поглядывала на других женщин и понимала: они, как и она, ушли из привычной для них беззаботной, легкой, интересной жизни – и ничего: ни следа уныния и отчаяния. Мужчины ежедневно уходили на свою бесконечную каторжную работу, а их жены вили свое гнездо, как могли, организовывали семью.
Молодые, энергичные, деятельные, они были уверены, что со всем справятся, преодолеют любые трудности, но неожиданно были озадачены тем, что, не приученные к домашней работе, они не знали, как приготовить то или иное блюдо. П. Е. Анненкова позже вспоминала: «Дамы наши часто приходили ко мне посмотреть, как я приготовляю обед, и просили научить их то сварить суп, то состряпать пирог».32
Мария Николаевна Волконская старалась всюду поспеть, помочь, кому нужна была помощь. Она шила и зашивала заключенным рубашки, чинила изношенную одежду – и мужу, и другим заключенным.
Сергей Волконский с удивлением смотрел на жену: оказывается, он до сих пор плохо ее знал. Сибирская ссылка открыла им глаза, они увидели друг друга в ином свете. Счастьем стало почувствовать понимание – с полуслова, с полувзгляда. Счастьем стало ощущать себя не порознь, а в семье. Мария Николаевна вновь ждала ребенка.
После освобождения многие декабристы написали «Воспоминания». Е. П. Оболенский с глубокой благодарностью обратился в своих записках к женщинам, которые сумели спасти и поддержать людей, отправленных на муки и смерть. «Прибытие этих двух высоких женщин, русских по сердцу, высоких по характеру, благодетельно подействовало на нас всех, с их прибытием у нас составилась семья».33
Примерно о том же написал и А. О. Корнилович:
«Если можно сказать про кого-нибудь, что ангелы сходят с небес и принимают нашу плоть для утешения смертных, то, конечно, про них. Трудно выразить заботливость, самую деятельную и неусыпную, какую они имеют об нас. Все мы для них братья. Для нас они отказываются от всего самого необходимого. Вот вам пример: они живут в крестьянских домах, которые вообще построены там дурно, и холода дуют с пола». 34
А декабрист А. И Одоевский, посвятивший этим замечательным женщинам стихотворение, назвал их ангелами, «низлетевшими с лазури».
Был край, слезам и скорби посвященный,Восточный край, где розовых зарейЛуч радостный, на небе том рожденный,Не услаждал страдальческих очей;Где душен был и воздух вечно ясный,И узникам кров светлый докучал,И весь обзор, обширный и прекрасный,Мучительно на волю вызывал.Вдруг ангелы с лазури низлетелиС отрадою к страдальцам той страны,Но прежде свой небесный дух оделиВ прозрачные земные пелены.И вестники благие провиденьяЯвилися, как дочери земли,И узникам, с улыбкой утешенья,Любовь и мир душевный принесли.И каждый день садились у ограды,И сквозь нее небесные устаПо капле им точили мед отрады…С тех пор лились в темнице дни, лета;В затворниках печали все уснули,И лишь они страшились одного,Чтоб ангелы на небо не вспорхнули,Не сбросили покрова своего.Было уже упомянуто о том, что в Чите за высоким забором, отделяющим заключенных от внешнего мира, женами декабристов были вскопаны клумбы и посажены цветы. Мария Николаевна в письмах обратилась к родственникам с просьбой прислать и семена овощей. Но, чтобы устроить маленький огород, надо было опять же получить разрешение коменданта О.А. Лепарского. К счастью, комендант разрешение дал. И, что удивительно, Сергей Григорьевич Волконский стал мастерить рамы для парников. Было непонятно, к чему приведет эта затея, но она увлекла князя, который никогда до этого не занимался огородничеством. Из письма Марии Николаевны получаем оценку этой работы:
«Он сделал опыт разводки табака из семян, присланных Вами, и они взошли на славу: рост стебля и размах листьев так же хороши, как на американских плантациях (…) У нас лето исключительное, ни одного мороза до сих пор; эта погода благоприятна для нашего огорода. У меня есть цветная капуста, артишоки, прекрасные дыни и арбузы и запас хороших овощей на всю зиму. Надо видеть, как доволен Сергей, когда приносит мне то, что врзащено его трудам».35
Замечаем, что Сергей Григорьевич не столько желал разнообразить стол, не столько хотел заготовить побольше овощей на зиму, сколько он увлекся этим непростым занятием, потому что это была обычная человеческая мирная работа, не связанная с каторжным трудом. Этим он спасал и себя, и семью от чувства унизительного наказания, тяжелого физически, позорного нравственно. Работа на огороде, принесшая хороший урожай, придавала самоуважение, удовлетворение сделанным.



