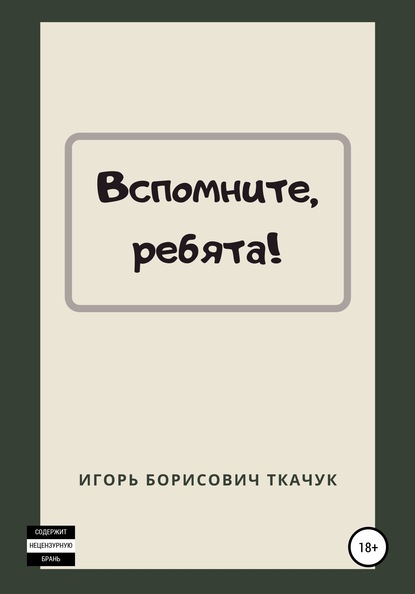 Полная версия
Полная версияВспомните, ребята!
Отвечать за указанные действия «шутнику» следовало по статье 108 УК РСФСР, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Мое решение по материалам вызвало негодование прокурора. Наши служебные отношения испортились самого начала. Подробнее об этом расскажу в следующей главе.
Содержание предыдущих разделов воспоминаний может создать впечатление о том, что по причине воспоминаний о временах молодости я невольно приукрасил отношения между студентами и преподавателями юрфака, представив их в исключительно благостном духе. Такое допущение справедливо отчасти. Память сохранила и другие впечатления, о тех, кто не вызывал симпатий студентов по причинам особенностей характера и своеобразия педагогических методов.
Кафедру гражданского права два с лишком десятилетия возглавлял профессор М. А. Тарасов. В 1946–47 годах он занимал должность декана. В наши годы был признан одним из столпов факультета, чему способствовал ореол основоположника «науки транспортного права». Об этой заслуге профессора свидетельствует официальный сайт факультета.
Правда, само существование упомянутой «науки» мне представляется сомнительным, поскольку с точки зрения формально-юридической тут обнаруживаются неприятные факты.
Первый – отсутствие отрасли (и понятия) «транспортного права», как таковых, в системе советского и теперешнего законодательства.
Второй – невозможность обнаружить и саму «науку транспортного права» в действующей номенклатуре юридических наук, утвержденной Министерством образования.
Кроме того, при оценке содержательной стороны «науки» возникает сомнение в соответствии работ основоположника критериям научности. В первую очередь такому, как решение проблемных ситуаций. На мой взгляд, его публикации представляют собой обычный комментарий к нормам законодательства различных уровней, регулирующих ситуации, связанные с перевозками.
Надо сказать, что вопрос о существовании «транспортного права» и одноименной с ним «науки» для воспоминаний не так важен. Я упомянул о них потому, что ореол «основоположника», кажется, способствовал формированию, или более явственному проявлению не самых лучших черт характера его обладателя.
Несмотря на мягкую внешность и некоторое сходство с добродушным комическим артистом И. Ильинским, это был властный персонаж с жесткими, если не тираническими, приемами управления аудиторией, сотрудниками и аспирантами кафедры. Своенравию профессора способствовало то, что его педагогический каток во время оно прошелся по большинству наших преподавателей, включая декана. И, пожалуй, никто из них не был психологически готов поправить прежнего наставника, нарушавшего в угоду собственному нраву не только принципы педагогики, но и нормативно установленные правила.
Слухи о непонятных критериях оценки знаний и непредсказуемых результатах экзаменов, которые принимал М. А. Тарасов, дошли до нас задолго до того, как мы встретились с ним в аудитории.
По рассказам наших предшественников, процедура экзаменов выглядела следующим образом. Профессор выслушивал ответы на вопросы билета с благодушной улыбкой и иногда задавал дополнительные вопросы. Затем предлагал подождать результата испытания в коридоре. Таких ожидающих накапливалось человек 5–7. Некоторое время спустя ассистентка экзаменатора из числа молодых преподавателей выносила зачетки. И тут часть студентов обнаруживала в строке «Гражданское право» пробел, означающий «неуд». Поначалу ребята возвращались в аудиторию со словами: «Михаил Александрович, вы забыли поставить оценку!».
Затем происходил диалог, ставший на факультете легендой.
М. А. (со сладкой улыбочкой). – Нет, не забыл. Вы хороший студент. Мне нравится вас слушать. Зайдите еще разок. О дате и времени узнайте на кафедре.
С. – Скажите, пожалуйста, в чем я ошибся?
М. А. (так же улыбаясь). – Я же вам ответил. Мне хочется встретиться с вами еще раз.
Отвратительность ситуации заключалась в том, что некоторые, попавшие в такой переплет бедолаги, были вынуждены приходить на подобные «встречи» с экзаменатором неоднократно, всякий раз получая зачетную книжку с пустой графой. Уходило в песок время на подготовку к другим экзаменам. Впереди маячило лишение стипендии.
Причина иезуитского поведения профессора оставалась непонятной. Неудачники, как правило, отличались добросовестным отношением к учебе и успеваемостью по другим предметам. Некоторые из них стали нашими преподавателями. Аспирант кафедры уголовного права, а затем кандидат юридических наук Феликс Мельников, признался, что «заходил» на пересдачу экзамена к М. А. Тарасову 18 раз, и в семнадцати из них слышал загадочную мантру «вы хороший студент, вы хороший студент». Произвол пошел на спад после принятия «Порядка проведения курсовых экзаменов и зачетов», запрещавшего пересдачу в течение сессии более двух раз.
С учетом предупреждений предшественников о памятливости профессора и экзаменационных перспективах, студенты вели себя на его лекциях, как новобранцы перед строгим старшиной.
Сами лекции заключались в пересказе глав учебника, без выхода на проблемные вопросы практики. Однако за ходом конспектирования профессор следил ревниво. Помнится, однажды, оторвавшись от заметок, он обратился к Лиде Колесник и Тане Юрасовой со словами: «А вы – болтушки! Вижу, у вас двоечка в глазах витает!». И, вытянув руку в сторону «болтушек», сопроводил зловещее пророчество движением пальцев, известным под названием «идет коза рогатая». Надо ли говорить о шоке, который пережили девчата, и с каким трепетом они шли на экзамен.
Некоторым из однокурсников, в том числе специализировавшемуся по гражданскому праву Ю. Белявскому, выпало пройти пересдачу экзамена у М. А. Тарасова по тем же непонятным причинам. К счастью, количество таких повторов было уже ограничено приказом.
Я же, выходя из экзаменационной аудитории, был уверен, что попал в число неудачников. Такое представление возникло в момент, когда после ответа на три основных и один дополнительный вопрос услышал широко известное: «Хороший студент!». Однако, профессор оценил мои знания на «отлично».
Кафедру уголовного права, процесса и криминалистики возглавлял доцент (позже профессор) П. Т. Некипелов (по прозвищу ПТН). О преподавательских способностях ПТН могу сказать мало. Глядя на него, я почему-то вспоминал киноартиста Э. Гарина в фильме «Каин 18-й». Занятия на нашем курсе ПТН провел лишь однажды, подменив В. Г. Беляева. Это была лекция по особенной части уголовного права. Не выпуская из рук УК, Некипелов дословно пересказал содержание нескольких статей. Некоторые из них, не углубляясь в анализ элементов состава, зав. кафедрой для убедительности прочел по 2–3 раза. Тогда же, по ходу занятий, ПТН совершил поразивший нас поступок. Не стесняясь присутствия студентов (том числе девчат), преподаватель расстегнул ворот рубашки, достал из кармана брюк носовой платок и вытер им подмышки (день стоял жаркий). Затем осторожно пронюхав этот непременный аксессуар культурного человека, невозмутимо возвратил его в карман.
Мои впечатления об оригинальных манерах шефа кафедры позже дополнил сослуживец по Пролетарскому РОМ Женя Руденко, окончивший университет двумя годами ранее. Дело было на экзамене. Подойдя к столу преподавателя, Женя увидел, как ПТН, не отрывая взгляда от ведомости, протянул навстречу раскрытую ладонь. Удивленный столь неожиданным проявлением демократизма, Евгений ответил деликатным рукопожатием. Эффект оказался ошеломляющим. Заведующий кафедрой выдернул руку из пятерни студента и стал тщательно протирать собственную конечность носовым платком. Оказалось, вместо рукопожатия следовало передать зачетку.
Были среди преподавателей и нейтральные персонажи, запомнившиеся отдельными деталями поведения и дальнейшей судьбой.
Один из них, по фамилии Режабек (имя отчество, к сожалению, забыл), в течение двух лет учил нас диалектическому и историческому материализму. Вращая вокруг большого пальца правой руки цепочку карманных часов, убеждал слушателей лекций в истинности марксистско-ленинской философии, а затем, совершил неожиданный поступок – бросив питомцев на произвол судьбы, эмигрировал в Израиль. До этого события никто из однокурсников об иудейских корнях «истматчика» не подозревал.
Еще одно запомнившееся действо с участием этого бывшего наставника произошло накануне его отъезда в страну обетованную на пляже левого берега Дона. Встретив там нашего однокурсника Юру Белявского, «Бек» (Сокращение слова большевик, употреблявшееся недолгое время после возникновения фракций большевиков и меньшевиков в Российской соц. – дем. Партии) протянул руку для мнимого приветствия, однако, на самом деле захватил пятерную студента, которого затем опрокинул через подножку на загорающую девушку. Этот поступок суховато-корректного проповедника марксизма-ленинизма надолго запомнился Юре неожиданностью. Возможно, таким образом «Бек» подвел итог опостылевшему общению со студентами на поприще утративших привлекательность партийных наук.
Другой – Бондарь (имени и отчества тоже не вспомню) читал курс государственного устройства стран социализма и писал кандидатскую диссертацию, подтверждавшую правильность решения партии и лично Никиты Сергеевича Хрущева о создании Совнархозов. Накануне завершения научной работы эти органы управления прекратили существование, а решение об их создании было признано ошибочным. Мой легкомысленный товарищ Виктор Захарченко сказал, что никакой катастрофы для соискателя в этой ситуации не усматривает. Диссертацию легко исправить, заменив по тексту в нужных местах частицы «да», выражающие согласие с первоначальным решением партии, на служебное слово «нет».
Наособицу от других преподавателей стоял заведующий кафедрой международного права профессор Н. М. Минасян. Это был вполне доброжелательный человек в возрасте за 50. Его наука имела отдаленное отношение к будущей служебной деятельности большинства из нас. Восприятие речи профессора затруднялось недостатками дикции и сильным акцентом. Правда, погрешности устной речи преподавателя компенсировались полным совпадением лекций с соответствующими разделами учебника. Чтобы избежать невнятного пересказа общедоступных материалов студенты без зазрения совести использовали присущую профессору слабость к воспоминаниям о репрессиях 30-х годов. Однокурсники систематически подводили преподавателя к этой теме, используя для этого цепочку изобретательно подготовленных вопросов. Рассказы Николая Михайловича мрачных годах, как правило, занимали значительную часть лекции и неизменно завершались воспоминаниями о несправедливом обрушении органами НКВД его карьеры министра иностранных дел Армении[34] и высокой оценкой роли Н. С. Хрущева в восстановлении демократических принципов руководства страной. Я не переставал удивляться готовности, с которой этот зрелый человек реагировал на шаблонный, прием отвлечения от намеченных учебных планов.
Надо сказать, что упоминание о Никите Сергеевиче к тому времени по многим причинам, в том числе из-за безудержного славословия в СМИ и документальном кино, вызывало нарастающее раздражение большинства населения страны. И вот, на лекции в начале октября 1964 года, после упоминания профессором о роли Первого секретаря в разоблачении культа Сталина, прямодушный до наивности Гунаш Набиев вдруг произнес: «Николай Михайлович, скажите, пожалуйста, не создается ли теперь в стране культ личности самого Хрущева?».
Профессор отреагировал негодующей тирадой: «Встаньтэ! Ви откуда приехал? (Вопрос объяснялся яркой кавказской внешностью Гунаша). Зайдетэ на кафедру после лекции!».
Затем лектор напомнил присутствующим о рабочем происхождении и шахтерском пути Никиты Сергеевича, которые дали первому секретарю мощную прививку от идей узурпации власти и служат действенным противоядием от восхвалений подхалимов и карьеристов.
Выполняя, требование профессора, Гунаш встретился с ним на кафедре сразу по окончании лекции. На мой вопрос о сути состоявшегося разговора прямодушный горец ответил: «Заставил взять тему курсовой по его кафедре. Больше ничего не говорил».
Надо же было тому случиться, что накануне следующей лекции Н. М. Минасяна Пленум ЦК КПСС освободил «Дорогого Никиту Сергеевича» от всех руководящих должностей.
Я узнал об этом утром 15 октября 1964 года от встретившегося у главного учебного корпуса студента-заочника – участкового уполномоченного Ленинского РОМ Стрельцова. Этот известный мне по университетской библиотеке неунывающий персонаж, имевший в послужном списке пребывание на гауптвахте за задержание пьяного дебошира, оказавшегося депутатом райсовета, выкрикнул на ходу: «Ну, что? Кинули Хруща!». Огорчения случившимся в поведении участкового не замечалось. В реакции других людей признаки душевной боли тоже не усматривались. По моим впечатлениям, новость заметно обрадовала население страны, включая партийных чиновников. О рабочих, служащих, военных, милиции, ученых и представителях других профессий и говорить нечего.
Естественно, первый вопрос профессору на состоявшейся 15 октября лекции касался причин столь неожиданного (хотя давно желанного) события. Отвечая на него, Николай Михайлович, язвительно рассмеялся: «Ха! Тоже шахтер нашелся! И шахты такой не было, где он работал!».
Последовавший за пояснениями дружный хохот курса профессор принял за реакцию на изреченную «остроту», упустив из виду собственные слова недельной давности о шахтере-пролетарии.
Кстати, В. Г. Беляев, не таясь, высказывал нелицеприятные суждения о Н. С. Хрущеве и его новациях в области права задолго до свержения вождя. Однажды на лекции Валерий Григорьевич иронично предположил, что Международной Ленинской премией первый секретарь награжден за исполнение главной роли в документальном фильме «Наш дорогой Никита Сергеевич». Эта лента, безудержно восхвалявшая героя повествования, появилась на экранах в 1963 году.
Итоги же правления Н. С. Хрущева, по словам Валерия Григорьевича, укладывались в краткий перечень:
– Разделил партию (на промышленную и сельскую).
– Объединил санузлы (в малогабаритных «хрущевках»).
– Намеревался соединить пол с потолком (намек на уменьшение высоты потолка «хрущёвок»).
– Планировал разделить Министерство путей сообщения на «туда» и «обратно».
Два последних пункта плана реализовать не успел.
Из пересказа Валерием Григорьевичем впечатлений знакомого ему участника Пленума 14 октября 1964 года, вел себя бывший вождь на этом партийном форуме трусливо. Узнав об окончательном решении, демонстративно аплодировал вместе со другими участниками. Видно, опасался повторить судьбу Берии.
По моим же тогдашним впечатлениям, несмотря на наступательную риторику в адрес США, в поведении и характерных оговорках ПерСека усматривалась скрытая зависть к этому оплоту империализма. В нынешние времена тайную мечту «Кукурузника» реализовали его дети и внуки, уехавшие на ПМЖ за океан. Как тут не вспомнить «яблоко от яблони». Это не сын «английского шпиона» Л. П. Берии, репрессированный Хрущем и лишенный решением Политбюро права на отцовскую фамилию – Сергей Гегечкори. Тот до конца дней оставался на Родине и внес большой вклад в ее обороноспособность в качестве ракетного конструктора.
Известные и знаменитые
Надо сказать, что учеба в университете, кроме общения с незаурядными личностями из числа преподавателей, позволила мне воочию увидеть других интересных людей, вошедших в историю науки, литературы, да и страны в целом.
Первым из них, естественно, стал Ю. А. Жданов.
Фамилию ректора нашего университета я узнал лишь с началом учебы. Ее обладатель представлялся «нематериальным по типу далекой звезды» (Т. Шаов). Этому способствовали родственные связи ректора с другими «нематериальными» историческими личностями – А. А. Ждановым и И. В. Сталиным. На дочери последнего – Светлане Аллилуевой – он был когда-то женат.
Впервые я увидел Юрия Андреевича в октябре 1961 года. В перерыве между лекциями вместе с однокурсником Сашей Ивановым мы прогуливались по коридору четвертого этажа главного учебного корпуса. Навстречу шел мужчина лет сорока, ниже среднего роста, непримечательной внешности в халате-спецовке синего цвета. Я решил, что это электрик, вызванный для ремонта барахлившей розетки в аудитории № 401. Поравнявшись, «электрик» обратился к Саше со словами: «Ну, как, осваиваетесь?». Услышав утвердительный ответ, одобрительно кивнул. После ухода «электрика» прокатился приглушенный шелест окружающих: «Жданов!». Я в недоумении обратился к Саше: «Где они увидели Жданова?». «Да вот же он подходил» – ответил товарищ.
Тут надо пояснить, что Саша Иванов первоначально поступил на географический факультет РГУ, конкурс на котором отсутствовал. Затем, наделенный от природы уникальными обаятельными способностями, сумел пробиться на личный прием к Ю. А. Жданову, «обаяв» которого добился перевода на юридический факультет. Об этом я узнал от самого Саши.
В дальнейшем видеть и слышать Ю. А. Жданова мне приходилось на студенческих диспутах, да в университетской колонне первомайской демонстрации 1963 года, где я запечатлел его на фото в кругу преподавателей.

Первомайская колонна РГУ 1963 г. перед выходом на Театральную площадь
На фото слева направо: Е. Н. Осколков – парторг университета,
В. А. Тищенко-проректор по учебной части,
Ю. А. Жданов – ректор
и (величественный на вид) проректор по хозяйственной части (фамилии и имени не помню)
Последняя встреча произошла на собрании нашего курса по поводу распределения для обязательного трудоустройства. В тот раз Валентин Басалаев попросил ректора заменить направление следователем в милицию Калмыкии назначением в Краснодарский край, где ему предлагали аналогичную должность. Ответ Юрия Андреевича привожу дословно: «Понятно. Кубань – это Сочи-мо́чи. Но надо же кому-то и в Элисту ехать». Правда, насчет Элисты ректор проявил оптимизм. Для Валентина столица Калмыкии оказалась недосягаемым «градом на холме». По склону этого холма Басалаев закатился в отдаленный степной райцентр, куда воду для бытовых нужд привозили два раза в неделю. Мыться приходилось дома в корыте. Там, в отличие от цивилизованных мест, следователи тянули повседневную службу райотдела наравне с оперативным составом, хотя формально должны были заниматься исключительно процессуальной деятельностью. Валентина я встретил (и не сразу узнал) в темном коридоре УООП по Ростовской области летом 1967 года. Однокурсник имел облик заскорузлого (прокаженного, по терминологии В. Захарченко) мента. На его форменной фуражке красовалось пулевое отверстие – визитная карточка, полученная при задержании убийц, укрывшихся в колхозной кошаре. В день встречи Валентин вел переговоры о переводе в Ростовскую область.
Надо отметить, что отношение ректора к просьбе Валентина не носило личной окраски. Его ответ отражал устоявшуюся точку зрения. Я сужу об этом по рассказу Тамары Филипповой – школьной подруги моей Людмилы. Речь идет о дочери бывшего начальника Владикавказского суворовского училища, о семье которого я упоминал ранее. Ю. А. Жданов был руководителем дипломной работы девушки, результаты которой оценивал положительно. Тамара – школьная золотая медалистка, увлеченная наукой студентка – «краснодипломница», обратилась к Юрию Андреевичу с просьбой посодействовать в направлении на работу по распределению в НИИ.
«Знаете, Тамара, – ответил Юрий Андреевич. – По-моему мнению, дельный человек не пропадет нигде. Если ваше желание заниматься наукой серьезно, вы этого добьетесь и без посторонней помощи. А пока соглашайтесь с тем, что будет предложено на распределении».
Как в воду смотрел ректор. После окончания факультета Тамара без поддержки со стороны стала кандидатом наук и сотрудником «химического» московского НИИ, в котором проходила преддипломную практику.
Получить относительно полную информацию о масштабе личности Ю. А. Жданова, его весомом вкладе в науку, в подготовку специалистов, в экономику Северного Кавказа и укрепление межнациональных связей этносов этого региона стало возможным после окончания учебы благодаря воспоминаниям его соратников, диссертационному исследованию Н. А. Степаненко[35] и вездесущему Интернету.
Привожу выжимку из этого массива.
Жданов Ю. А. выпускник химического факультета МГУ. Участник Великой отечественной войны в должности инструктора Главного политуправления РККА с 1941 по 1945 год. 1 декабря 1947 года после двух бесед с И. В. Сталиным о проблемах отечественной химии и биологии был назначен на должность заведующего отделом науки ЦК ВКП(б).
Весной 1953 года, после смерти Сталина, секретарь ЦК П. Поспелов, ссылаясь на некое мнение, рекомендовал Ю. А. Жданову «получить опыт местной партийной работы» за пределами Москвы. Юрий Андреевич выбрал Ростов-на-Дону. С 1953 по 1957 год – не прерывая научных исследований и преподавательской деятельности, руководил отделом науки и культуры Ростовского обкома партии.
С 1957 по 1988 годы работал ректором Ростовского государственного университета, затем заведующим кафедрой органической химии этого ВУЗа. Ученый с мировым именем. Доктор химических и кандидат философских наук. Действительный член Российской академии естественных наук, Академии гуманитарных наук России, Академии энергоинформационных наук, Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности, почетный член ряда зарубежных академий. Почетный гражданин города Ростова-на-Дону (1997 г.).
Автор фундаментальных открытий в области органической химии, сформировавший понятие информационной емкости молекул, служащее основой единой классификации биоорганических соединений.
Автор работ в области биохимии, биогеохимии, генетики, выполнивший исследования в области микроэлементов, имеющие большое прикладное и народнохозяйственное значение.
Обладатель 20 с лишком авторских свидетельств, фиксирующих приоритеты в области синтеза важных биологически активных веществ (антидепрессантов, психостимуляторов, антиаритмиков), а также фотохромных соединений, люминофоров и своеобразных полимикроудобрений. Разработчик и инициатор применения длительно действующих керамических полимикроудобрений (фрит), производство которых было налажено на химзаводе в Ростове-на-Дону.
Автор исследований, давших практические результаты в области химической эволюции и теории ноосферы.
Удостоен Государственной премии СССР 1983 г. за серию работ, связанных с экологическим развитием Северо-Кавказского региона, завершившихся созданием математической имитационной модели Азовского моря. Результаты моделирования использованы при определении прогноза рыбопродуктивности водоема, его солености и самоочищения и при разработке проекта Керченского гидроузла.
Ю. А. Жданов инициатор создания в структуре Ростовского университета научно-исследовательских институтов: физической и органической химии, механики и прикладной математики, физики, нейрокибернетики, социальных и экономических проблем.
Под руководством Юрия Андреевича разработаны региональные программы развития энергетики Северного Кавказа, развития экономики Ростовской области и Краснодарского края, комплексная программа научно-технического прогресса Северного Кавказа, сформирована программа экономического и социально-политического развития Северного Кавказа.
Ректором предложена «Концепция кавказской политики России», включающая: взаимовыгодное сотрудничество, укрепляющее мир, межнациональное согласие; совместные усилия в области человеческих взаимоотношений, науки, культуры, образования, экологии, спорта.
Признание научных заслуг и высоких человеческих качеств Ю. А. Жданова вышло далеко за пределы университетских кругов. Свидетельством этого стали результаты голосования горожан, согласно которым нашему ректору посвящена первая звезда, заложенная на «Аллее Славы» в городе Ростове-на-Дону.
Юрий Андреевич увлекался историей мысли, классической литературой, живописью и музыкой. По воспоминаниям известного математика проф. А. Б. Шидловского наш ректор свободно говорил на двух иностранных языках, прекрасно играл на рояле, держался без зазнайства.
Студенческая молва характеризовала его как доброжелательного, доступного к общению и готового оказать человеческую поддержку руководителя. Известны неоднократные случаи заступничества Юрия Андреевича за студентов и преподавателей от необоснованных претензий чиновников.
Мои личные впечатления о Ю. А. Жданове связаны с его мыслями о проблемах разума, познания, становления личности и насущных задачах совершенствования общественного устройства страны, высказанными на факультетских собраниях и диспутах. Таких встреч за время моей учебы было две или три.
Сейчас не могу воспроизвести выступления нашего ректора в цельном виде. Приведу по памяти некоторые из запомнившихся тезисов.



