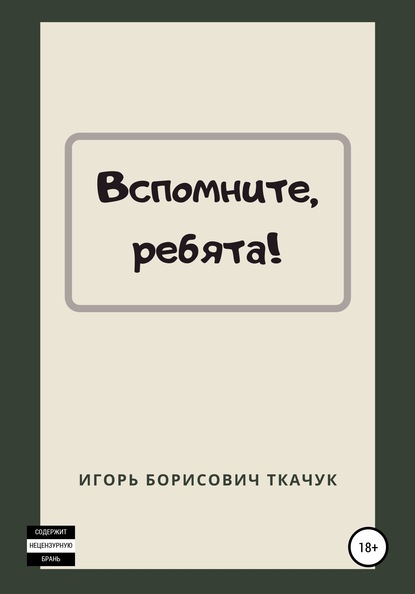 Полная версия
Полная версияВспомните, ребята!
На допросе по делу об убийстве Любовь рассказала, что погибший Виктор ей известен около месяца. Познакомилась с ним на танцах. Три или четыре раза он провожал девушку из клуба. Вечером накануне гибели Виктор пришел к ее дому вместе с соседом по общежитию «Гришкой Куликом» и предложил пойти на танцы. Было уже 22 часа, а танцы заканчивались в 23. Кроме того, оба приятеля были пьяны. К тому же, Кулик вел себя агрессивно, зло насмехался над приятелем и предлагал девушке Любови свою «дружбу».
Расставшись с Виктором и Куликом, Любовь вернулась домой и о дальнейших событиях того вечера ничего не знала.
Важные сведения сообщила буфетчица железнодорожного вокзала. По словам женщины, вечером накануне убийства Кулик приходил в буфет дважды. В первый раз в 21 час вместе с Виктором. Обоих посетителей буфетчица опознала по фотографии. Они пили пиво, добавляя в кружки водку. Вторично Григорий появился около 23-х часов без Виктора. Кулик приставал к присутствующим, нецензурно выражался и устроил драку с Табунщиковым, которого женщина знала, как постоянного посетителя буфета. Эти показания опровергали последовательность и содержание событий того вечера, описанных Куликом.
По подсказке буфетчицы я нашел других свидетелей, которые подтвердили случай нападения Кулика на Табунщикова. Кроме того, Григорий, по их словам, оскорблял нецензурной бранью других посетителей за то, что пытались его утихомирить.
Жильцы общежития характеризовали Кулика, как любителя спиртного, агрессивного в состоянии подпития. В этой ситуации возникло предположение об убийстве Виктора Куликом. Мотивом могла стать вспышка агрессии или ревности.
Отвечая на вопросы о противоречиях между его показаниями и другими материалам дела Кулик нервничал, срывался на крик, требовал «не мучить допросами», а «лучше арестовать, если подозревают».
Прокурор П. М. Сазонов заметил: «Не торопитесь! Найдем основания, арестуем». При этих словах Кулик в сердцах произнес: «Так будет спокойнее».
– Будет еще спокойнее, – продолжил В. А. Тетёркин, – когда ты признаешься в убийстве Виктора».
– А вот тут вы загнули, – вяло возразил Кулик. – Как же я это мог сделать?
– Ударил в спину ножом, когда Виктор наклонился завязать шнурок, – вставил я.
На эти слова Григорий среагировал как на разряд тока. Помедлив, он произнес: «Ну, раз так, доказывайте. Я больше ничего не скажу».
Григория арестовали по обвинению в хулиганских действиях в вокзальном буфете вечером в день гибели Виктора. Одновременно продолжалась проверка его причастности к убийству. Однако доказательств вины Кулика в этом преступлении добыть не удалось. По показаниям свидетелей, у Григория имелся складной нож, который мог служить орудием убийства, однако мы его на нашли. Григорий утверждал, что потерял складник за неделю до трагического события. Следов крови жертвы на одежде Григория не было.
Дело по факту убийства приостановили. Кулик осудили на три года за хулиганство, и отправили в колонию.
Меру пресечения в отношении Н. И. Табунщикова отменили, а уголовное преследование в отношении него прекратили за отсутствием в его действиях состава преступления.
Впоследствии прокурор П. М. Сазонов возбудил уголовное дело по обвинению В. И. Передрия в принуждении Табунщикова к даче показаний. Это случилось после моего отъезда в Ростов. Василий приезжал ко мне с просьбой дать показания в его защиту. Я обещал рассказать все, как было. Однако следствие обошлось без моих свидетельств.
Эта история закончилась еще одной смертью. О финале я узнал впоследствии от В. А. Тетёркина. Кулик написал из колонии «явку с повинной», признался, что убил Виктора и не может себя за это простить. Убийство объяснил неожиданной вспышкой злобы после расставания с Хуторной из-за на мелкого замечания приятеля. Сообщил о готовности дать подробные показания. Однако постановление об этапировании заявителя в Крымск опоздало. Кулик неожиданно покончил с собой.
Следствие по делу об убийстве длилось до конца августа 1964 года. Я продолжал работать в следственно-оперативной группе, несмотря на то, что срок практики к тому времени окончился. Не мог оставить коллектив до прояснения ситуации. П. М. Сазонов и В. А. Тетёркин реагировали на это с пониманием. Их положительная оценка моей работы вышла за пределы формального одобрения. Накануне отъезда на учебу прокурор предложил мне занять свободную должность следователя межрайонной прокуратуры и завершить учебу на заочном отделении. В ответ я признался, что считаю очное образование более качественным и поэтому оставлять свой курс не хочу. Павел Михайлович отнесся к этому суждению с пониманием и добавил, что готов рекомендовать меня на должность по завершению учебы. Именно так я и планировал будущее. Правда, обстоятельства сложились иначе.
Попутно с участием в расследовании убийства я выполнял отдельные процессуальные действия по ряду других не столь значимых дел.
Вторым по яркости воспоминаний осталось участие в оперативно-розыскном мероприятии, о котором пойдет речь ниже.
История началась в субботний день 1 августа 1964 года. Следственно-оперативная группа, работавшая по делу об убийстве, собралась на совещание в кабинете уголовного розыска Крымского РОМ. Это был момент, когда после лихорадки розыска по «горячим следам» и получения данных о вероятной причастности к преступлению Н. И. Табунщикова, выяснилось, что эта версия ошибочна. Азарт поиска и предчувствие удачи сменились тупой усталостью.
После подведения итогов межрайонный прокурор П. М. Сазонов предложил провести предстоящий воскресный день на море. Начальник милиции обещал дать машину.
Однако эти радужные планы внезапно рухнули. Группа не успела разойтись, как из дежурной комнаты донесся сдавленный плач и громкий разговор. Начальник отделения уголовного розыска Игорь Мельник направился на шум.
На скамье дежурки примостилась невзрачная старушка, одетая, несмотря на жару, в мужской пиджакиз ранее черного, а теперь рыжего сукна. Через ее сбивчивую речь временами прорывались рыдания. Закрывшись ладонями, женщина раскачивалась, словно от боли.
Перед нами сидела жертва карманника. Украли много. Старушка продала корову. Недавно она похоронила мужа и решила, что настало время собираться вслед за ним. Задумала деньги на похороны и на памятник заранее собрать.
– Ето Господь наказал, – вдруг ровным голосом выговорила потерпевшая.
– Как родная была. С дитеночка ее растила. Вдвоем на хозяйстве остались. Веду её с ночи из дому, а она жалобно замычала: «Не продавай меня, бабка!».
Дело возникло тухлое – «глухой висяк». Розыску препятствовали несколько обстоятельств.
Во-первых, потерпевшая ничего не могла сказать о внешности вора. Никого подозрительного вблизи себя не замечала.
Во-вторых, карманник, по-видимому, приезжий. В Крымске эта публика не приживалась. В таких городках для них нет простора. Скорее всего, этот любитель содержимого чужих карманов больше здесь не появится.
В-третьих, отсутствовали свободные сотрудники. Отделение уголовного розыска состояло из трех человек, включая начальника[38].
В-четвертых, даже если» ЕГО» поймают с поличным на новом преступлении, прежняя карманная кража почти недоказуема.
Несмотря на пессимистические прогнозы, оперативники отвели воскресенье рейду по вероятным местам нового появления карманника. Группе придали сотрудников других подразделений. Я решил помочь ребятам посильным участием.
На нашу долю с оперуполномоченным ОУР Александром Ведашевым выпал автовокзал. Мы встретились там в шесть утра следующего дня. Александр, недавно переведенный в Крымск из милиции Горьковской области, имел опыт предстоявшей специфической работы и охотно делился ее основами.
«Сначала подготовим рабочую площадку», – пояснил он, приглашая за собой в диспетчерскую. Там опер представился дежурной, предупредил, что на вокзале проводится оперативное мероприятие и попросил запомнить участников группы на случай повторного посещения, когда снова предъявлять удостоверение будет недосуг. Диспетчер согласно кивнула, хотя вряд ли догадывалась о сути мероприятия.
По возвращении в зал, мы расположились на передней скамье, лицом в сторону касс. Слева через открытый выход просматривался посадочный перрон.
После первых попыток выделить из обстановки что-либо важное для нашего предприятия у меня возникло чувство безнадежности. Спереди, с боков и сзади непрерывно двигался поток незапоминающихся лиц. Суета дополнялась монотонным гулом и неразборчивыми объявлениями через громкоговоритель.
Заметить в этой толчее замаскированные действия преступника представлялось невозможным. Ведашев же тем временем расслабился, с виду, до легкой дремы. Откинувшись на спинку скамьи, он рассеянно о смотрел в никуда.
– Сними напряжение, – чуть слышно посоветовал он. – Не всматривайся в каждого человека в отдельности. Постарайся видеть обстановку целиком. Место у нас верное. Если ОН на вокзале, будет мигрировать от касс к посадке и обратно.
– А как его распознать? – спросил я.
– Настороженного человека отличишь?
– Наверное…
– Ну, тогда и ЕГО должен увидеть. Только в глаза не смотри.
– Чтоб не загипнотизировал? – пошутил я.
– Нет, чтобы он интереса не засек, – объяснил Ведашев. Он не только глазами «сечет». Даже нутром чувствует тех, кто им заинтересовался.
Ближе к полудню я с удивлением обнаружил, что стал выделять из окружения не только отдельных лиц, но и особенности характера этих людей.
Вокзальная жизнь, несмотря на жару, не затихала. Люди периодически копились у касс, постепенно рассасывались, чтобы затем вновь сбиться в напористую кучу у двери подкатившего к перрону автобуса.
В какой-то момент я обратил внимание на парня, топтавшегося в конце очереди. Парень нервничал и постоянно оглядывался.
Посмотрев на меня, Ведашев отрицательно покачал головой: «Не ОН! – И пояснил вывод. – Заметный, угловатый. Карманник обтекаемым должен быть. А нервничает из опасения, что билетов не хватит. Оглядывается на жену. Она с ребенком у стены рядом с выходом».
Подходящий персонаж попал в наше поле зрения в начале первого часа пополудни. Это был худощавый мужчина среднего роста, лет 60-ти, одетый в ковбойку и соломенную шляпу. С перекинутым через левое предплечье пиджаком. «Ковбой», как я окрестил его для себя, плавал в нашем поле зрения, словно соринка в глазу. Я обратил на него внимание одновременно с Александром, когда мужичок вместе с толпой ушел на посадочный перрон, однако вскоре снова вернулся в очередь за билетами.
«Кажется, ОН, – сказал Александр. – Давай за мной с интервалом, без суеты».
Ведашев с лицом умаявшегося пассажира направился к кассе. Нагоняя его, я на мгновение отвлекся и вдруг услышал крик Александра: «Нет, вы посмотрите, что он делает!»
В моем сознании зафиксировался стоп-кадр: Ведашев, разведя в стороны потных женщин, указывал взглядом на «Ковбоя». Тот, застыл в мгновенном параличе и продолжал держать руку в наружном кармане блузки полной тетки. Далее завертелась карусель. Александр, выхватил мужчину из очереди.
«А ну, кто видел, давайте за мной» – крикнул он, открывая ногой дверь диспетчерской.
По плану моей обязанностью было «обеспечить» уговорами участие в дальнейших событиях потерпевшей и минимум двух очевидцев. В противном случае наши усилия могли пропасть даром: свидетели по такого рода делам и даже жертвы карманников порой просто сбегали из-за нежелания участвовать в следственных и судебных процедурах.
Но в этом случае эмоциональный заряд Александра сдела лдело. Потерпевшая и трое очевидцев ввалились вслед за ним в диспетчерскую.
Из-за короткой давки на входе я задержался снаружи. К моему приходу Александр занял место у стола, держа над ним сжатую в кулак руку «Ковбоя».
– Ой, боже! – кричала потерпевшая. Нехай вин подавиться тымы копийкамы. В мене ж там було 63 копийкы.
– Гражданин, покажите народу, что у вас в кулаке, – тормошил задержанного Ведашев.
Мужчина молча сопротивлялся. Внезапно из группы очевидцев взметнулся увесистый кулак пассажирки. За возгласом «высыпай, гад!» последовал гулкий удар по спине «Ковбоя». Мелочь из кулака карманника раскатилась по столу.
– А вот это ни к чему, – рассердился Ведашев.
– Звыняйте, – смешалась пассажирка. – Я ж от души…
Ее извинения заглушил хохот окружающих.
Тем временем диспетчер посчитала мелочь. Сумма в самом деле составляла 63 копейки, приготовленных под расчет для покупки билета.
Через 20 минут участники событий сидели в милицейском УАЗике.
Задержанный оказался неоднократно судимым карманником «на пенсии». Отбыв последний срок, он недавно осел в теплых краях. Купил мазанку на хуторе «Первенец» в 7 километрах от Крымска. Завел кур и кроликов. Жил бобылем. Воскресное посещение Крымска объяснял желанием познакомиться с городом. С криминальной профессией решил «завязать», однако придя на автовокзал для отъезда домой, избежать соблазна «проверить» чужой карман не смог.
Причастность к субботней краже на рынке категорически отрицал. Правда, в этом случае его подвело нарушение профессионального кодекса карманников, предписывавшего немедленно избавляться от личных вещей потерпевших, украденных вместе с деньгами. Была ли эта его промашка проявлением жадности или тяги к коллекционированию, не известно. Возможно, мы столкнулись с синдромом Плюшкина. Дело в том, что при обыске в доме карманника милицейский следователь обнаружил возможные доказательства преступной деятельности. Среди набора хранившихся за настенным зеркалом разномастных женских кошельков, расчесок и зеркалец нашелся носовой платок с вышитыми инициалами обокраденной старушки. Именно в эту тряпицу, по показаниям потерпевшей, были завернуты деньги, вырученные от продажи коровы.
Как ни странно, арестовывать карманника следователь не стал. Доводом для избрания подписки о невыезде послужили наличие собственного жилища и домашние животные на подворье обвиняемого, за которыми не кому было присматривать.
Суд состоялся в конце августа. Ведашев и я присутствовали на процессе в числе других свидетелей. Карманник к этому времени избавился от кур и кроликов.
Во время перерыва накануне оглашения приговора он ушел обедать в чебуречную напротив суда (теперь в этом помещении посудный магазин). С обеда вернулся в «состоянии крайнего недоумения», отражавшем сомнения в реальности происходящего. Отвечая на вопросы судьи о самочувствии, чистосердечно признался, что в предвидении возможного лишения свободы, выпил напоследок крепленого вина. Восемь стаканов.
Предчувствие «Ковбоя» оказалось верным. Суд отправил его в места лишения свободы на 5 лет.
За период практики у меня появились друзья из числа сотрудников прокуратуры и милиции. С теми из них, кто не уехал в другие края, я общаюсь поныне. С бывшим следователем, затем прокурором, судьей и, наконец, пенсионером В. А. Тетеркиным и его детьми мы провели «вечер воспоминаний» в октябре 2016 года. Виталий Александрович умер зимой 2017-го.
Прежнего прокурора П. М. Сазонова назначили на такую же должность в Туапсинском районе. Он передавал мне из тех краев приветы через своего зятя Николая Губенко и Гену Лозового, бывшего студента нашего курса, а затем следователя туапсинской прокуратуры.
Среди сотрудников милиции, запомнившихся неординарными поступками и трагической судьбой, молодой участковый уполномоченный Николай Лукин.
Накануне моей практики он задержал на отдаленном хуторе бежавшего с этапа особо опасного рецидивиста. Связи с районом не было. Задержанию предшествовала перестрелка. Бандит имел при себе пистолет «ТТ», отнятый у конвоира. По ориентировке вероятность появления беглеца на родном хуторе была сомнительной. По этой причине Николая послали туда в одиночку, «на всякий случай». Сцена задержания, по словам участкового, напоминала оперетту «Свадьба в Малиновке». На финальном этапе участковый и беглец ползали по-пластунски по междурядьям огорода. Время от времени приподнимались над кустами картофеля и стреляли друг в друга. Затем Николай оказался за спиной рецидивиста.
«Знаешь, – рассказывал участковый, – Сменил обойму, поднимаю голову, а он в паре метров впереди смотрит в куда – то в сторону. Мелькнула жуткая мысль – сейчас я человека убью. Вопреки инстинкту крикнул, что стреляю. А он поднял руки. У него патроны кончились».
Этим поступком Николай компенсировал выговор, полученный тем же летом за вопиюще превратное использование доклада Н. С. Хрущева при исполнении служебных обязанностей.
Предыстория события такова. В соответствии с планом реализации мероприятий, предусмотренных Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1956 года «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством», пригородный колхоз им. В. И. Ленина в начале 60-х годов принял в коллектив артели табор ромал[39] [2]. Для убеждения в преимуществах оседлого образа жизни этим гражданам предоставили коттеджи, построенные на окраине г. Крымска за счет хозяйства.
Ромалы признательности к благодетелям не выявляли. Желание вернуться к бродяжничеству сдерживала лишь оговоренная Указом угроза привлечения к уголовной ответственности. Однако от стремления сбиваться всем табором на ночевку в один коттедж их удержать было нечем. Районному и городскому руководству эта особенность не нравилась. Задачу убеждать цыган в недопустимости нарушать жилищно-санитарные нормы возложили на участкового уполномоченного милиции Николая.
А цыгане были неисправимы. Ежевечерние увещевания сбивавшихся в кучу ромал толку не давали. Уклоняясь от встреч с назойливым участковым, они периодически меняли место ночного сна.
Тут-то Николая осенила идея применить вместо метода убеждения иезуитскую пытку, какой представлялось прослушивание выступлений и докладов Н. С. Хрущева, инициатора приснопамятного Указа об одомашнивании кочевников.
Воплощая в жизнь задуманное, Николай запасся в Красном уголке райотдела сборником речей под названием «Современный этап коммунистического строительства и задачи партии по улучшению руководства сельским хозяйством». Затем, выследив очередное место ночного сбора ромал (благо, отходили ко сну рано), вламывался в коттедж. В коротком вступительном слове объяснял беднягам, что их антисанитарное поведение бросает вызов идеям Никиты Сергеевича, изложенным в речи на зональном совещании работников сельского хозяйства Кубани, а также в докладе на мартовском (1962 года) Пленуме ЦК КПСС. После этого переходил к чтению вслух соответствующих материалов.
Помню мстительное удовольствие, с которым он описывал реакцию цыган, вынужденное общение с которыми лишало его и без того редко выпадающего вечернего отдыха.
«У́-част-ковый, – тоскливо кричали ромалы лужеными глотками. – Уже читал! Не надо!».
«Нет, надо! – возражал Николай. – Ничего не поняли. Потому и собираетесь в кучу». Устное изложение идей Персека продолжалось не менее часа.
Эксперимент закончился жалобой цыган председателю колхоза Есину. Скандал докатился до райкома партии и от первого секретаря Скороходова спикировал на райотдел милиции. Николай, получив грандиозную выволочку и выговор, приобрел в коллективе титул чтеца-декламатора.
Он был смелым, душевным и жизнерадостным парнем. В пятницу седьмого августа 1964 года мы отвезли в Краснодар объекты для экспертного исследования. На обратном пути беззаботно болтали в кузове попутного грузовика. А через два дня, в воскресенье, он застрелился из табельного «Макарова» после глупой и пошлой истории с его невестой. Эксперт Кузьма Иванович Соленов сказал, что в момент смерти Николай был трезв.
Курс четвертый, новое жилье и последняя шабашка
Учеба на четвертом курсе прошла по накатанной колее. Я стал «круглым» отличником с повышенной стипендией в размере 50 рублей. 10 апреля 1965 года состоялась наша с Людмилой свадьба. Свидетелем в ЗАГСе были Саша Смола и школьная подруга Тамара Филиппова, дочь бывшего начальника Орджоникидзевского суворовского училища. Свадьбы мы хотели избежать, однако этого не позволили комсомольские активисты наших с Людмилой факультетов. Они организовали вечер в ресторане «Центральный».
После женитьбы мы Людмилой поселились в частном доме по Крепостному переулку, метрах в 50-ти от угла улицы Энгельса. Выбор жилья и хозяйки оказался неосмотрительным, что объяснялось отсутствием необходимого опыта и предсвадебной суетой.
Наше пристанище представляло собой выгородку из коридорного тупика. За него квартирная хозяйка Розалия Матвеевна брала 30 рублей в месяц.
Раньше в этом «пенале» за 15 рублей в месяц квартировал инженер НИИ по имени Толя. Затем хозяйку осенила мысль увеличить арендную плату вдвое и сдавать этот укромный уголок студенческим семейным парам.
Поскольку Толе такое повышение было не по карману, он освободил апартаменты, переместив кровать в коридор на проходе к ванной.
Сама хозяйка занимала две комнаты площадью 70 квадратных метров. Кроме того, неприкосновенной для жильцов территорией считалась бо́льшая часть коридора и просторная веранда. Иногда к Розалии Матвеевне приезжал живший отдельно взрослый сын, с которым хозяйка громко спорила по неведомым жильцам имущественным вопросам.
Историю квартирных перемещений Толи и его взаимоотношений с хозяйкой мы узнали позднее. Наш сосед, с виду крепкий парень лет 25-ти, занимался штангой в ДЮСШ. Выполнил норматив 2-го разряда в весовой категории 73 килограмма. Однако незадолго до нашего знакомства, решив побороть грипп ударной тренировкой и последующим горячим душем, заработал ревмокардит. При нас для него стали неподъемными даже пятикилограммовые гантели.
К Розалии Матвеевне Толя попал после недавнего расторжения брака. Причиной распада семьи заключалась в мизерной, по воззрениям жены, 120-ти рублевая зарплата мужа. Финал расставания супругов Толя описал так: «Обсудили положение. Вместе поплакали. Пошли в суд. Развелись». Чем занималась бывшая жена соседа, Толя не рассказывал. Иногда экс-супруга приходила к Толе и оставалась на ночь. На недоуменные вопросы о столь странных отношениях сосед отвечал: «Что поделаешь? Старый друг лучше новых двух».
В вечерних разговорах Толя обсуждал идею найти доходную работу на Севере или на Дальнем Востоке. После возвращения оттуда с большими деньгами, говорил сосед, бывшая жена «крупно пожалеет».
В начале лета 1965 года «Бэби» – Женя Ляхов, нашел для нас с ним временную (на месяц) работу в бригаде ремонтников трамвайных путей. Эта шабашка оказалась кстати. Учеба Людмилы еще не кончилась, а деньги требовались на поездку в милую жене Головинку Лазаревского района большого Сочи. Завершить каникулы мы планировали знакомством с Одессой, по приглашению старшей сестры отца тети Лизы.
Коллектив ремонтников, готовый принять нас с Женей на временную работу, трудился вблизи дома будущего профессора, на мосту у пригородного вокзала.
Наши трудовые обязанности относилась к категории «бери больше – бросай дальше». Трамвайные рельсы лежали в напластованиях асфальта толщиной 15–20 см. Пути следовало вырубить из плена дорожного покрытия с боков и посередине. После чего предстояло заменить старые рельсы на новые. В качестве инструментов использовались пневматический перфоратор с мотокомпрессором и набор ломов.
Как объяснил мастер, замена освобожденных рельсов выполнялась ночью, чтобы не перекрывать движение. Несмотря на небольшие по сравнению с вырубкой асфальта трудозатраты, эта операция была самым высокооплачиваемым этапом работ. Подготовительная часть, требовавшая гораздо больших физических усилий, оценивалась по смехотворным расценкам, утвержденным Постановлением СНК СССР в каком-то далеком году. По словам мастера, за вскрытие квадратного метра асфальта нашей толщины и последующую погрузку бывшего покрытия на автомашину следовало платить по 30 копеек. Несмотря на это, руководитель обещал нам с «Бэби» заплатить за месяц добросовестной работы по 100 рублей. Каким образом мастер намеревался обойти расценки, мы не спрашивали. Очевидно, речь шла о таком виде противоправных действий, как пресловутые «приписки». Вышестоящее руководство, пояснил мастер, смотрело на подобные уловки сквозь пальцы, понимая, что желающих работать по расценкам 30-х годов уже не найти. По нашему с «Бэби» мнению, такой подход к оплате труда не противоречил здравому смыслу и нормам официальной морали.
Позже, расследуя уголовные дела о хищениях в отрасли строительства, я внимательно отслеживал грань между приписками, устраняющими перекосы в устаревших расценках, и «дутыми объемами» работ, маскирующими хищения алчного начальства.
Зачисление в бригаду прошло без излишних формальностей. В Трамвайно-троллейбусном управлении приняли наши заявления, записали наши паспорта и выдали служебные билеты на проезд в трамвае и троллейбусе сроком на месяц. Мастер предупредил, что в случае прогула или прекращения трудовых отношений до истечения месячного срока оплатит отработанные дни в полном объеме, однако возврат после этого в коллектив исключит навсегда.



