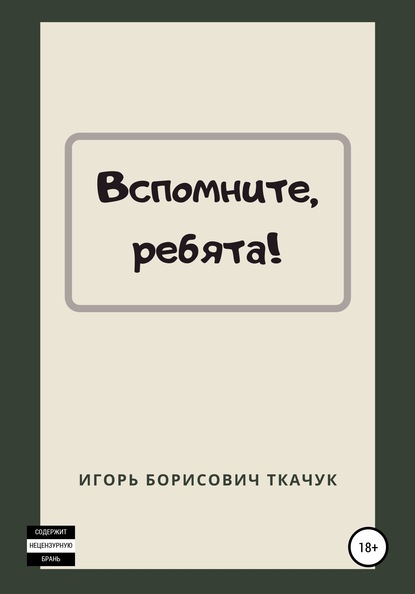 Полная версия
Полная версияВспомните, ребята!
Задача науки и практики – познавать неведомое в известном[36]. Некоторые обыденные проявления сознания и поступки значительно таинственнее, чем это представляется. Их надо изучать, а не сочинять космические влияния на судьбу человека.
Каждый человек видит мир по-своему, в зависимости от уровня сознания. Чем оно выше, тем более человек приспособлен к выживанию и различным видам деятельности.
О положении философии в системе наукОбразно говоря, все, что теперь содержится в дезоксирибонуклеиновой кислоте, было закодировано уже у Эмпедокла (древнегреческий философ 430 год до н. э). А если серьезно, его идея выживания форм предвосхитила теорию Дарвина. Философу принадлежит ряд замечательных догадок в области физиологии и медицины.
Об источнике формирования разумаПо Эмпедоклу разум – высший критерий в познании человека, источник же формирования разума – в ощущениях.
Творческое применение методов марксистско-ленинской философии отечественными учеными позволило добиться уникальных достижений в формирования сознания и разума в условиях крайне ограниченного восприятия (ощущения) мира.
В данном случае Юрий Андреевич имел в виду достижения своих друзей – единомышленников психолога А. И Мещерякова, философов Э. В. Ильенкова и А. Н. Лосева в работе со слепоглухонемыми ребятами. Усилиями этих ученых четыре пациента специализированного интерната, лишенные зачатков сознания, не способные к элементарному обеспечению процессов собственной жизнедеятельности, приобщившись через ограниченный канал тактильных ощущений к сфере идеального, получили возможность мыслить и говорить (не слыша сами себя), стали учеными, поэтами, преподавателями. Выступали на публичных лекциях. Двое из них, Александр Суворов (доктор психологических наук, педагог, и поэт) и Наталья Корнеева дружили с дочерью нашего ректора. До разработки описанного метода слепоглухонемые во всем мире вели «растительное» существование. В настоящее время метод успешно используется во многих странах.
О диалектикеЗнание истории диалектики от Гераклита до Энгельса и Ленина и ее результатов, несомненно, полезно каждому в его поисках истины.
Не следует переоценивать достижения естественных наук в понимании тайн материи. Фотографирование атомов металлов с помощью электронного микроскопа дает представление лишь о структурных уровнях организации вещества, не расширяя наших познаний в категориях прерывного и непрерывного, бесконечного и конечного.
О состоянии экономической мысли в странеТеоретическая мысль экономистов фактически не развивается. Наука подменена непродуманными опытами.
Истоки проблем сельского хозяйстваСобственность может быть крупная, а производство – мелкое. Это противоречие существует тысячелетия. В свое время оно взорвало римские латифундии и усадьбы французских помещиков. Необходимы новый уровень организации труда, управления, активное использование науки, высокой агротехники. Уровень обобществления определяется не размерами собственности или хозяйства, а внутренними условиями.
Формально-юридическое обобществление производства в виде объединения колхозов и «всякого рода кукуруза» (дословно) далеки от мер, обеспечивающих максимум преимуществ реального обобществления.
(Эти суждения были высказаны в разгар «реформаторских» потуг Хрущева, возлагавшего надежды на повышение эффективности сельскохозяйственного производства за счет укрупнения колхозов, упразднения МТС, расширения посевных площадей под кукурузу и проч.).
О признаках разрушения социума, сползающего к идеологии потребления и стяжательстваНалицо дегуманизация искусства. Стремление его отдельных представителей подменить подлинную культуру суррогатами с пропагандой антигуманизма, мещанства, стяжательства, навязыванием молодежи низменных идеалов. Насаждение ограниченности и уродливого вкуса.
Распространение мелкобуржуазных тенденций в среде интеллигенции и части партийных работников.
Проявление у части социума «комплекса Эрисихтона» (персонажа, наказанного богиней плодородия Деметрой чувством неутолимого голода), предрекающего печальную участь общества, основанного на парадигме потребления и стяжательства. Тупиковость цивилизации с подобными идеалами.
Об исследовании причин преступностиКаждый случай противоправного поведения является проявлением человеческой деструктивности, антагонизма и отчуждения. Основным инструментом исследования этих составляющих служит применение метода диалектики.
Важнейшая черта русской культуры – стремление к социальной справедливости. Отступление от этого принципа в виде неравноправия и привилегий разрушает морально-нравственное состояние социума, провоцирует формирование у части граждан антиобщественных установок, которые в определенных условиях выливаются в совершение правонарушений.
Некоторые из припомненных мною высказываний ректора были явно не по душе партийным функционерам различных мастей. Однако, возражать ему открыто, они не решались.
Травля ректора, побудившая его уйти в отставку, началась на заре перестройки. Первопричиной послужила убежденность Юрия Андреевича в правоте марксизма и неизбежности возрождения идеалов коммунистического общества. Кроме того, по свидетельству бывшего заместителя ректора проф. В. И. Седлецкого, «эта шайка» сводила счеты с Ю. А. Ждановым «как с носителем ненавистной фамилии». Одновременно шел вал нападок на его отца – А. А. Жданова.
Позволю небольшое отступление о некоторых особенностях этих нападок. У меня нет цели исследовать методы и результаты военной, политической и хозяйственной деятельности бывшего секретаря Ленинградского обкома партии А. А. Жданова, соратника И. В. Сталина, умершего в 1948 году. Однако хотел бы сказать о явных фальшивках, «разоблачающих» порочащие его «факты» личного поведения.
Временами мне попадались на глаза некие писания по поводу пиров и «обжорства» А. А. Жданова в умирающем от голода блокадном Ленинграде. Однажды прочел о купаниях секретаря в ванне с шампанским. Судя по стилю, уровню фантазий и лексике писали газетные маргиналы. Однако недавно наткнулся на подобную «бульбу» книге доктора филологических наук Е. Г. Водолазкина «Инструмент языка. О людях и словах». Филологический доктор шагнул дальше идейных сподвижников-разоблачителей, «кормивших» секретаря обкома апельсинами и пирожными с причудливыми французскими названиями. Согласно его информации, А. А. Жданов объедался Ленинграде ананасами. Тропические плоды доставлялись к столу спецрейсами. Откуда, интересно? В меню Сталина ананасов не было.
Измышления разоблачителей блокадного рациона А. А. Жданова неоднократно опровергнуты серьезными исследованиями. В дополнительных усилиях эти работы не нуждаются. Однако поделюсь двумя версиями о возникновении в воспаленном сознании Водолазкина такого диковинного в тех обстоятельствах предмета обжорства, как ананас.
Предположение первое. Ананас – это признанный символ «безумного» кутежа. Будучи филологом, Водолазкин узнал об этом, исследуя двустишие В. В. Маяковского «Ешь ананасы, рябчиков жуй…». Посему этот плод идеально подходил в качестве символа эгоцентрического разложения руководителя умирающего в блокаде города. От обличения А. А. Жданова в поедании рябчиков Водолазкин воздержался, опасаясь упреков в явном заимствовании образа у поэта-футуриста.
Версия вторая – филологический доктор по рассеянности перепутал ананасы с анчоусами (хамсой).
Мое же собственное убеждение в порядочности и личной скромности А. А. Жданова основывается на народной мудрости о яблоне и яблоке. Не мог отец такого человека, как наш бывший ректор Ю. А. Жданов быть циничным обжорой и участником кутежей в блокадном городе. Генетика.
Другой, прежде «нематериальной» личностью, на встрече с которой мне выпало присутствовать, стал Михаил Александрович Шолохов. Дело было в конце весны 1963 года. Наш курс (40 человек, а по факту присутствовало менее 30-ти), предупредив о предстоящей встрече с автором «Тихого Дона», неожиданно собрали в малом актовом зале. Классик появился через 20 минут ожидания в сопровождении секретаря парткома Е. Н. Осколкова. Его внешность совпадала с каноническими портретами. Небольшого роста, худощавый, лицо много повидавшего человека и задорный кок надо лбом.
Признаюсь, я ожидал стать свидетелем неких откровений, и словесных конструкций, соответствующих масштабам личности гостя. Увы, ожидания не оправдались. Михаил Александрович сообщил простенькими фразами о том, что нам предлагается стать инициативной группой, ходатайствующей о присвоении степени почетного доктора РГУ английскому писателю Чарльзу Сноу. Это был ответный жест Шолохова, избранного годом ранее по предложению англичанина почетным доктором права университета Сент-Эндрюс.
Вскоре Ученый совет РГУ нашу «инициативу» реализовал. Осенью того же года англичанин приехал в Ростов вместе с женой Памелой Джонсон, тоже писательницей. Вручение диплома доктора происходило в театре им. Горького («Тракторе»). Кроме заветной книжицы, Ю. А. Жданов вручил Чарльзу символы причастности к казачьему сословию: черную бурку и милицейскую фуражку, внешне совпадавшую с головным убором Донского казачьего войска.
Со времен горбачевской «перестройки» на Шолохова было вылито много грязи. «Забойной» темой стало утверждение о присвоении им рукописи «Тихого Дона». Активное участие в продвижении этой темы принял составитель текстов из лагерного фольклора Солженицын (выпускник нашего университета). Главным доводом обличителей было отсутствие рукописи романа. В конце концов, подлинник текста нашелся.
Оставляя в стороне подготовленную ЦРУ США (о чем рассказал бывший сотрудник радиостанции «Свобода» Г. Климов) возню вокруг М. Шолохова, хочу отметить черты Михаила Александровича, свидетельствующие о человеческих качествах писателя, не связанных с литературными достижениями.
Это, прежде всего, безоглядная смелость в «заступничестве за народ» – земляков из казачьих станиц.
Много сказано о жестокости Сталина и кровавых репрессиях 30-х. Но именно в это время (4 апреля 1933 года) М. А. Шолохов обратился к «тирану» с подробным описанием преступлений поименно названных представителей власти, пытками выбивавших подчистую хлеб у станичников. Ссылаясь на невозможность обойти молчанием то, что «в течение трех месяцев творилось в Вешенском и Верхне-Донском районах», писатель просил «послать в Вешенскую доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, невзирая на лица, разоблачить тех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района». Сейчас с этим письмом можно ознакомиться в Интернете. Заметим, что Шолохов в те годы не был в фаворе у Сталина, которому опубликованные части «Тихого Дона» не понравились.
Сталин ответил Шолохову двумя телеграммами, которых сообщил о срочном выделении районам – Вешенскому 120 000 и Верхне-Донскому 40 000 тысяч пудов ржи, а также о направлении комиссий для проверки достоверности упомянутых писателем случаев преступлений ретивых уполномоченных по заготовке.
Однако в последовавшем за телеграммами письме он с заметным раздражением отметил: «Ваши письма производят несколько однобокое впечатление… Хлеборобы Вашего района (и не только Вашего района) проводили «итальянку» (саботаж)… по сути, вели «тихую войну» с Советской властью. Войну на измор… дорогой тов. Шолохов…»[37]. Другая знаменательная черта – бескорыстие. Все литературные премии писатель передал на благие дела:
Сталинскую первой степени (1941 г.) – в фонд обороны.
Ленинскую (1960 г.), Нобелевскую (1965 г.) и три других международных премии – на строительство школ и больниц в станицах Вешенского района.
На те же нужды была потрачена подавляющая часть гонораров. Дело доходило до того, что у писателя порой не было денег на оплату партийных взносов и на железнодорожный билет для поездки в Москву. Об этом мне рассказал при встрече бывший староста нашего курса Миша Барановский. Его распределили в Вешенский суд. В станице Миша лично общался с Михаилом Александровичем во время совместных выездов на охоту.
Еще одна пикантная подробность, характеризующая безоглядную лихость Вешенского казака, стала известна мне в конце 80-х. Это было время массового пересмотра уголовных дел 30-х годов. Проходя по коридору 10 (архивного) отдела КГБ СССР (теперь УРАФ), я встретил участника «пересмотровой» группы следователя центрального аппарата Н. Гаруса, знакомого со времен совместной работы на Украине. Николай, доверительно поманив меня в кабинет, показал материалы архивного дела по обвинению Ф. Каплан (покушавшейся на В. И. Ленина) и дело по обвинению «Кровавого карлика», бывшего наркома НКВД Н. Ежова.
Первое дело было интересно тем, что приобщенные к нему вещественные доказательства – патронные гильзы, не подходили к пистолету, принадлежавшему террористке. Чем объяснить такой феномен, следователи не знали. Я заметил Николаю, что при теперешнем «бардаке» с вещдоками и иными материалами на следующем изгибе истории, возможно, будет сделан вывод о том, что подлинной жертвой выстрела была Каплан, в которую стрелял вождь революции.
В деле же наркома имелась стенограмма «прослушки», зафиксировавшая факт интимного общения в гостинице «Москва» «лихого казака» М. А. Шолохова с женой запятнанного кровью Н. Ежова. Стенограмма докладывалась Сталину, но поведение станичника осталось без последствий.
Интересно, найдется ли среди брызжущих слюной обличителей «приспособленца и плагиатора» М. А. Шолохова хоть один индивид с набором похожих человеческих качеств и поступков?
Третьим известным человеком, с которым довелось встретиться во время учебы в университете, стал заочно знакомый с детства «главный следователь страны», Лев Романович Шейнин. В подростковом возрасте я зачитывался его увесистой книгой «Записки следователя».
Прочтение «Записок» в зрелые годы оставило впечатление «олитературенного» изложения материалов «Следственной практики», периодического издания ВНИИ криминалистики Прокуратуры Союза ССР, пособия для следственных работников. Доступ к успешно расследованным делам у автора был неограниченным. Ведь с 1935 года Лев Романович занимал должность начальника следственного отдела Прокуратуры СССР.
Пригласительный билет на мероприятие с участием Шейнина мне дал В. Г. Беляев. Встреча проходила зимой 1965 года в малом зале здания театра им. Горького.
Л. Р. Шейнин – рыхлый мужчина с одышкой, располагался в кресле на возвышении. Оттуда, не прекращая курить, известный стране юрист рассказывал об участии в Нюрнбергском процессе и в работе Советского комитета защиты мира. Об этой встрече осталось смутное воспоминание.
В середине 80-х годов мой тогдашний начальник Ю. А. Замараев дополнил первые впечатления о бывшем «Главном следователе Прокуратуры СССР» рассказом об участии этого человека в репрессиях 30-х годов и об изворотливости «Льва» в описании событий того времени. Допросы в рамках инициированного Хрущевым второго по счету расследования убийства С. М. Кирова проводил Юрий Афанасьевич. Первое следствие, как выяснилось, вел автор «Записок…», подписавший и обвинительное заключение по делу 1934 года.
Подробнее об этом расскажу далее.
Теория – практика
Практик во время учебы было три. Первая – ознакомительная, летом 1963 года. Местом ее прохождения стали Кировский РОМ, Народный суд Железнодорожного района и Юридический отдел Областного Совета профсоюзов. В памяти застряли пыльная комната архива районного суда, в которой наша группа из трех человек знакомилась с рассмотренными делами.
Производственную практику 1964 года я проходил в Крымской Межрайонной прокуратуре Краснодарского края в качестве следователя-стажера.
В этот период случились два ярко запомнившихся события. Первым по значимости было убийство 22-летнего рабочего РСУ, по имени Виктор (фамилии не помню), совершенное в воскресенье 19 июля 1964 года в безлюдном Мичуринском переулке г. Крымска.
Дело принял следователь Виталий Александрович Тетеркин, один немногих профессионалов, доброжелательные уроки которых я с благодарностью вспоминал на протяжении профессиональной карьеры. Оперативные мероприятия выполняли ребята из группы уголовного розыска во главе с Игорем Мельником. Через три дня эту группу возглавил старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УООП Кубани майор милиции Василий Передрий.
Я участвовал в расследовании, начиная с осмотра места происшествия. Тело Виктора обнаружил на рассвете случайный прохожий. Одежда на лежавшем ничком убитом состояла из рубашки и брюк. Шнурок на правой туфле был развязан. Смерть наступила от удара ножом под левую лопатку. Следы борьбы на одежде и теле отсутствовали. Кровь на месте раны слегка проступила через ткань рубашки. Прохожий сперва принял Виктора за пьяного.
Подготовить постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, присутствовать на вскрытии и помогать судмедэксперту Кузьме Ивановичу Соленову в ведении записей В. А. Тетеркин с согласия прокурора поручил мне. Это первое в профессиональной практике вскрытие оказалось эмоционально тяжелее учебного мероприятия на кафедре мединститута.
Давила обстановка. Маленькая клетушка прозекторской во дворе санчасти консервного комбината. Грубо сколоченный стол с бортиками, обитый изнутри оцинкованным железом с отверстием-стоком посередине. Два ведра. Одно на табуретке с водой для прозекторских процедур. Другое – под отверстием стола. Из второго ведра по мере наполнения летят кровавые брызги на халат и незащищенные штанины эксперта.
Для ответа на вопрос о наличии в организме погибшего алкоголя, Кузьма Иванович, как и требовалось по методике, взял пробы крови на биохимический анализ. Однако для неотложного предварительного вывода обошелся методом времен своей молодости: исследовал содержимое желудка на запах. Результат объявил немедленно: «Был пьян, как…». Предлагая убедиться в истинности этих слов, протянул вскрытый желудок: «Понюхай!». Запах алкоголя исходил и от мозга покойного.
Вряд ли предложение эксперта было сознательным испытанием моей устойчивости к стрессу. На обратном пути в прокуратуру Кузьма Иванович поделился мыслями об отношении к работе с покойниками: «Знаешь, занимаюсь ими больше 40 лет, и кажется, привык. Но вот поеду на недельку на море, возвращаюсь обратно и думаю, как же ВЫ надоели. Приходится себя пересиливать».
Согласно заключению, смерть наступила от проникающего ранения сердца колюще-режущим предметом длиной не менее 5 сантиметров. По мнению Кузьмы Ивановича, в момент нанесения удара убитый, сильно наклонился вперед. У меня мелькнула мысль о том, что Виктор нагнулся завязать шнурок. Однако ответа на этот вопрос эксперт дать не мог. Это выходило за пределы компетенции Кузьмы Ивановича.
Но, вернемся к поискам преступника. Орудия преступления участники осмотра не нашли. Следов убийцы тоже. Опрос жителей домов, прилегающих к месту происшествия, значимой для раскрытия убийства информации не дал.
Погибший жил в общежитии, одноэтажном здании, метрах в 50-ти от угла переулка, на выходе из которого было обнаружено тело.
Активную помощь в установлении виновника гибели Виктора оказывал Григорий Кулик, сосед убитого по двухместной комнате общежития.
По показаниям Кулика, вечером накануне убийства они с Виктором зашли выпить по кружке пива в буфет железнодорожного вокзала. На выходе к ним беспричинно пристал незнакомый пьяный мужчина, по некоторым догадкам, рабочий Мостопоезда. В ходе возникшей потасовки незнакомец порвал Григорию рубашку. Кулик же оставил на лице дебошира синяк.
После этого инцидента Григорий направился на танцы в клуб консервного комбината, а Виктор свернул в переулок в сторону общежития. Незнакомец же до расставания приятелей сопровождал приятелей на отдалении, выкрикивая угрозы. В какое-то время Кулик потерял мужчину из виду.
Выходило, что Виктор стал жертвой пьяного хулигана, который догнал его в переулке.
В тот же день описанного Куликом мужчину установили оперативники. Им оказался трижды судимый, командированный из Ростова шофер Николай Табунщиков, крепкий мужчина лет сорока, обильно украшенный наколками. Кулик уверенно опознал в нем драчуна. Показания Кулика подтверждались ссадиной на лице шофера и порванной рубашкой самого Григория. Среди вещей Табунщикова обнаружился складной нож приличных размеров с бурыми разводами на лезвии.
Табунщиков, признав факт потасовки с Куликом, причастность к убийству отрицал. По словам шофера, в тот вечер он крепко выпил, но ни к кому не приставал. Инициатором конфликта у буфета вокзала стал Кулик, затеявший с ним ссору без видимой причины. Григория шофер после стычки не сопровождал, а пошел спать в барак Мостопоезда.
Табунщикова задержали и поместили в КПЗ (ныне ИВС). Через двое суток в результате напористых уговоров Передрия он написал заявление, в котором признался в убийстве, однако вспомнить подробностей преступления не мог.
Упомянутые беседы оперативника с Табунщиковым проходили в моем присутствии в кабинете уголовного розыска. Их смысл заключался в том, что единственным выходом из сложившейся ситуации для Табунщикова является смягчающее вину обстоятельство – признание. В противном случае шоферу грозит исключительная мера наказания. Оправданиям же Табунщикова, трижды судимого за кражи и хулиганство, никакой суд не поверит. Свидетельствую, столь мастерского психологического нажима, какой продемонстрировал Передрий, мне в дальнейшем не приходилось видеть ни разу. Табунщиков плакал, писал, рвал «признание» и снова принимался писать. Угроз физического насилия со стороны Передрия не было.
Следов крови на ноже подозреваемого экспертиза не выявила. Тем не менее, межрайонный прокурор П. М. Сазонов продлил срок задержания шофера до 10 суток.
Надо сказать, проверяя причастность к убийству описанного Куликом мужчины мы с В. А. Тетеркиным обратили внимание и на некоторые непонятные обстоятельства в поведении самого Кулика. Однако их исследование отошло на второй план после появления подозреваемого Табунщикова, который «удачно» вписывался в событие преступления.
Вкратце суть неувязок заключалась в следующем.
Вернувшись день убийства из клуба в общежитие, Григорий, по его словам, обнаружил, что их с Виктором комната заперта, а сам сосед, у которого находился ключ от входной двери, отсутствует. Не дождавшись возвращения Виктора, Кулик влез в комнату через окно и лег спать. Утром он выбрался тем же путем наружу и направился на поиски соседа в сторону Мичуринского переулка. Причину выбора этого маршрута поисков Григорий объяснить не мог. Перейдя через улицу Маршала Жукова, на которую выходил переулок, он увидел следственно-оперативную группу, проводившую осмотр.
Мичуринский переулок протяженностью 70 и шириной 4 метра представлял собой кратчайший путь для возвращения Кулика накануне вечером к общежитию из клуба консервного комбината. Возник вопрос, почему, проходя по переулку, Григорий не заметил тела соседа, лежавшего в белой рубашке на пешеходной тропинке. Нелогичным было и то, что поиски соседа он отложил до утра.
Кроме того, я вспомнил, как увидев тело Виктора, Григорий сначала пытался прорваться убитому через ограждение места происшествия, а затем стал выкрикивать угрозы в адрес неизвестного убийцы. Поведение Кулика в обстановке молчаливой и сосредоточенной работы нашей группы вызвало ощущение фальши. В тот момент я решил, что Кулик пытается компенсировать показной реакцией чувство вины за то, что не уберег товарища от смерти.
В ходе дальнейшего расследования количество вопросов к Григорию увеличивалось.
Согласно детективной литературе, место происшествия, нередко притягивает к себе преступника. Очевидно, этот феномен в определенной мере распространяется и на следователей. Пытаясь вжиться в обстановку места убийства, я дважды приходил вечерами в Мичуринский переулок. Меня не оставляла надежда обнаружить какие-то новые обстоятельства, хотя бы намекающие на суть случившегося. Об этих потугах, опасаясь насмешек старших коллег, я никому из членов следственно-оперативной группы не рассказывал.
В последнее посещение сведения для новой версии в расследовании обнаружились неожиданным образом. В сумерках, задумавшись, я сидел на скамейке у ворот двора с мазанкой (теперь на месте этого домика не осталось даже следов фундамента). Неожиданно рядом устроился незнакомый парень.
«К Любке пришел? – доверительно спросил он. – Смотри, опасное дело. Тут из-за нее человека недавно убили».
Я ответил, что оказался здесь случайно, и парень продолжил, что в этом дворе живет Любка Хуторная, «красивая девка» пятнадцати лет. В этом году из-за любовной связи с ней сел натри года «один парень-грек». После с Любкой связался Виктор из РСУ. За это его и убили.
– Не может быть, – усомнился я.
– Еще как может, – продолжил сосед по скамейке.
– Тебя как зовут? – спросил я. – Живешь где?
Услышал ответы, назвался следователем и пригласил нового знакомого на утро завтрашнего дня в прокуратуру. Парня такой оборот поразил до крайности. Он сбивчиво объяснил, что ничего достоверного об убийстве не знает и высказал всего лишь случайное предположение о причине события. Так мы и записали на следующий день в протоколе допроса. Однако сведения о связи погибшего с «Любкой» оказались кстати. Кулик об этом знакомстве Виктора промолчал. Любовь Хуторную в прокуратуре знали. Дело об уголовно наказуемой связи с ней «парня – грека» расследовала Майя Дыкленко, выпускница нашего факультета 1963 года.



