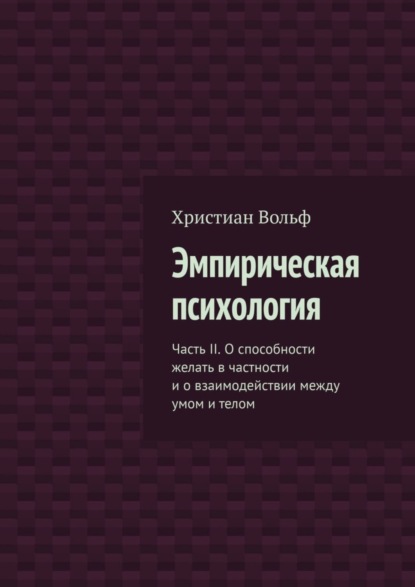
Полная версия:
Эмпирическая психология. Часть II. О способности желать в частности и о взаимодействии между умом и телом
§. 578. Как скука возникает из истинного блага.
Если возникает ситуация, когда из истинного блага возникает скука, поскольку скука должна возникать либо непосредственно, либо случайно (§. 574.575), но непосредственно она возникнуть не может (§. 577); следовательно, она может возникнуть только случайно.
Это подтверждается примером, к которому мы ранее обращались для подтверждения предыдущей идеи. Действительно, скука никогда не возникает из знания и добродетели, если только не появляется из зависти и ненависти к другим. Таким образом, скука из знания и добродетели возникает только случайно (§. 575).
Глава II. О чувственном влечении и отвращении
§. 579 Определение влечения в общем.
Влечение в общем – это склонность души к какому-либо объекту, основанная на восприятии блага в нем.
Например, представим, что Тиций слышит от врача Семпрония, что какая-то пища способствует поддержанию здоровья. Если он поймет, насколько важна эта пища для здоровья, он решит, что она хороша, придавая ей степень благости в зависимости от того, насколько она способствует здоровью (С. 554). Таким образом, когда он так решает, он осознает, что тянется к этой пище и желает ее. Таким образом, реальность этого определения становится очевидной на практике, что каждый может испытать сам.
§. 580 Определение чувственного влечения.
Чувственное влечение – это то, что возникает из идеи воспринимаемого блага. Поэтому его можно определить независимо от общего влечения как склонность души к объекту на основе блага, которое может быть истинным или кажущимся, воспринимаемого в нем.
Например, представим, что Тиций на вкус ощущает приятный вкус вина и в привычной восприятии решает, что это хорошо. Отсюда он почувствует влечение, которое мы называем чувственным. Поскольку наше влечение в большинстве случаев является чувственным, его примеры очевидны, и они не исчезают, если вы обращаете достаточное внимание на те случаи, когда мы по привычке желаем что-либо.
§. 581. §581. Определение отвращения.
Отвращением в общем смысле называется отклонение души от объекта, воспринимаемого как зло, или того, что кажется нам таковым.
Например, если Тиций слышит от врача Семпрония, что какой-то продукт может нанести вред здоровью, ссылаясь на примеры людей, которые, употребляя его, столкнулись с серьезными и опасными болезнями, он отвергает этот продукт, а если он уже его съел, то извергает его. Таким образом, он отказывается от продукта, который воспринимает как зло, хотя на самом деле мог бы его съесть из-за очень приятного вкуса. Когда он отвергает продукт, его душа отклоняется от него, поскольку он хочет, чтобы этот продукт был как можно дальше от него; это мы показываем наклоном головы и движением рук, как будто кто-то хочет убрать что-то от себя, когда это нам предлагают. Так же, как в определении желания мы использовали ясное понятие наклона, хотя и с некоторыми недостатками, так и здесь мы согласны с ясным, но несовершенным понятием отклонения. Ведь каждый может в любой момент испытать, что означает как наклон, так и отклонение души, поскольку желания и отвращение непрерывны, и едва ли можно найти момент, когда мы не чего-то хотим или от чего-то не отказываемся.
§. 582. Определение сенситивного отвращения.
Сенситивное отвращение – это реакция, возникающая из представления о страдании, воспринимаемом как зло. Таким образом, независимо от отвращения в общем смысле, её можно определить как уклонение от сенситивного объекта из-за воспринятого в нём зла или того, что мы, кажется, воспринимаем в нём. Например, если кто-то испытывает сильную боль от хирургического инструмента, введенного в рану, или каким-то другим образом примененного к ней. Если в будущем хирург решит снова использовать этот инструмент для раны, то воображение вызывает идею боли (§. 117), чтобы соединиться с текущим восприятием. Поэтому раненый отстраняется от этого инструмента и отвергает его использование на своей ране. Эта реакция называется сенситивным отвращением, потому что она в конечном итоге возникает из чувства; это также следует учитывать в контексте сенситивного влечения.
§. 583. Пояснение терминов схоластиков.
Схоластики также называют чувственное влечение просто влечением. Они делят это влечение, которое понимается как чувственное, на два типа: стремительное и гневливое. Стремительное влечение – это то, что мы называем чувственным влечением (§.580). Гневливое влечение обозначает ту способность, которую мы именуем чувственным отвращением. Как говорит Франсиско де Овьедо из Общества Иисуса в своем Философском курсе, том 2, трактате о душе, в разделе 4, пункте 3, чувственное влечение делится на стремительное и гневливое. Это деление не связано с различием способностей, а с различными действиями, происходящими от одной и той же способности: когда влечение направлено к добру, его называют стремительным, а когда к злу – гневливым. Если кто-то хочет использовать термины схоластиков, он легко сможет адаптировать наши понятия, следуя этому образцу. В общем, влечение – это способность ума, благодаря которой мы стремимся к добру, как бы оно ни воспринималось, и уклоняемся от зла. Чувственное влечение относится к добру или злу, которые обычно воспринимаются. Стремительное влечение – это наклонение души к воспринимаемому добру, а гневливое влечение – это уклонение от воспринимаемого зла.
Не все стремления различаются между стремлением к желаемому и гневом одинаковым образом. Философы-томисты утверждают, что стремление к желаемому направлено на добро, тогда как гневное стремление – на сложное добро. С этими точками зрения спорит Иоанн Понций в своем курсе философии, опираясь на идеи Скота в трактате о душе, где описывает стремление к желаемому как то, что движется к добру, независимо от того, является ли оно трудным или нет, достигая его различными действиями, кроме тех, что направлены на преодоление препятствий. Гневное стремление, напротив, связано с действиями, направленными на преодоление этих препятствий, и он доказывает, что эта мысль соответствует взглядам Скота. Если ты решишь использовать эти термины, будет более уместно отнести стремление к желаемому к стремлению к любому добру, а гневное – к избеганию зла, поскольку важно различать стремление к добру, к которому стремится душа, от стремления к злу, которого она избегает. Споры схоластиков о терминах, которые можно объяснять по своему усмотрению, являются пустыми, даже если их удобнее объяснять так; важно, чтобы на практике, ради которой эти различия делаются, они были полезны.
§. 584. Нижняя часть воли.
Чувствительное желание, сопровождаемое чувственным отвращением, называется нижней частью воли. Здесь желание рассматривается не как действие, а как возможность действия или потенция, которую мы называем факультативной (§. 29). Это название заимствовано из другой области, где мы делим способность познания на нижнюю и верхнюю части: нижняя часть аппетитивной способности соответствует нижней части познавательной способности, от которой она зависит.
§. 585. Состояние индифференции.
Когда мы ни желаем, ни отвергаем известный объект, мы считаемся индифферентными, а состояние души, при котором она индифферентна к объекту, который ей представлен, называется состоянием индифференции. Это состояние подтверждается опытом. Например, если кто-то видит на берегу реки много камешков и рассматривает их, но при этом ни желает, ни отвергает их. Более того, если он берет их в руки, чтобы лучше их рассмотреть, он все равно их снова отбрасывает, желая лишь созерцать их, но не желая обладать ими, возвращаясь к состоянию индифференции после созерцания.
§. 586. Представление и причина желания и отвращения.
Представление о добре служит достаточной причиной для желания, в то время как представление о зле – достаточной причиной для отвращения. Поскольку ничего не существует без достаточной причины, возникает вопрос, почему мы должны избегать чего-то, а не наоборот (§. 70 Онтология); также есть достаточная причина, объясняющая, почему мы желаем что-то, а не отказываемся от этого: почему мы должны избегать чего-то, а не просто игнорировать. Опыт показывает, что когда мы что-то желаем, мы воспринимаем это как благо; когда мы что-то отвергаем, мы воспринимаем это как зло. А когда мы не желаем и не отвергаем, мы не знаем, является ли это для нас благом или злом, или же можем считать, что это не то, ни другое. Поэтому, когда мы получаем удовольствие от добра, когда осознаем это (С. 558), мы испытываем скуку от зла, когда осознаем это (§.569); из того, что мы считаем что-то добром, становится ясно, почему мы предпочитаем желать это, а не отвергать, и из того, что мы считаем что-то злом, становится понятно, почему мы предпочитаем отвергать это, а не желать, или не отвергать. Таким образом, представление о добре становится причиной желания, а представление о зле – причиной отвращения (§.56 Онтология).
Знание о том, каковы достаточные причины желания и отвращения, крайне полезно. Так мы подчиняем это не меньше, чем то, как это будет видно из моральных учений.
§. 587. Статус безразличия: когда он существует.
Если мы не осуждаем что-либо ни как добро, ни как зло; мы находимся в состоянии безразличия. Дело в том, что если мы ничего не воспринимаем, у нас нет достаточной причины для желания (§. 586). Поскольку иногда, согласно достаточной причине, ничего не может существовать (§. 70 Онтология); и мы не можем желать того, что не воспринимаем как добро. Следовательно, если мы не можем отвергать то, что не воспринимаем как зло, становится очевидным: если мы ничего не воспринимаем ни как добро, ни как зло, мы не можем ни желать, ни отвергать это, и, таким образом, находимся в состоянии индфферентности (§. 585).
Это также подтверждается апостериори. Здесь уместен пример, который мы привели для иллюстрации состояния безразличия (см. §. цит.); и можно привести множество других примеров, когда нам нужно просто направить наше внимание на объекты, которые в отношении нас и нашего состояния не воспринимаются ни как хорошие, ни как плохие. Важно обращать внимание на объекты, к которым мы относимся с безразличием, чтобы заметить недостаток восприятия добра и зла, и, таким образом, истина данного утверждения становится всё более и более ясной для нас.
Если вы утверждаете, что представление о добре не является единственным достаточным основанием для желания, а представление о зле – единственным основанием для отвращения, то необходимо упомянуть и другие причины, которые могут служить основой как для желания, так и для отвращения. Если кто-то хочет обратить внимание на подозрение, возникшее из незнания, ему следует задуматься над тем, что объекты не вызывают желания, если только они не имеют отношения к нам: ведь то, что нас не касается, нас не интересует. Если же объекты касаются нас, они либо улучшают наше состояние, либо ухудшают его, либо вообще не влияют на него. Таким образом, желание, помимо представления о добре (§. 554), и отвращение, помимо представления о зле (§. 565), не могут иметь другого основания, когда оба отсутствуют. В этом случае и желание, и отвращение исчезают, и возникает состояние безразличия, как это и предполагается в данной пропозиции. Если кто-то задумывается, почему он безразличен к тому или иному объекту, который ему предлагается, он легко поймет, что только через представление о добре или зле можно перейти из состояния безразличия в другое состояние.
§. 588. Неизвестному нет влечения.
Поскольку невозможно определить, как какой-либо объект относится к нам и нашему состоянию, мы не можем сказать, является ли он хорошим или плохим, пока он нам не известен. Неизвестное не вызывает у нас желания ни стремиться к нему, ни отвергать его; мы остаемся безразличными к одному и тому же. Древние тоже это заметили, подчеркивая известную пословицу: Неизвестному нет влечения.
§. 589. Как возникает желание.
Как только мы представляем что-то как хорошее, у нас возникает желание этого. Действительно, как только мы воспринимаем что-то как хорошее, у нас появляется достаточная причина для желания (§. 586), следовательно, само желание (§. 118 Онтология) также возникает, и мы стремимся к этому объекту.
Каждый из нас испытывает это в себе, если он способен различать те вещи, о которых он осознаёт в себе, и если он достаточно проницателен.
Важно помнить, что в данном утверждении, как и в других, предполагается, что ничего не может повлиять на определение предиката, кроме того, что содержится в понятии субъекта. Таким образом, в данном случае мы представляем объект как хорошее, и ничего из того, что мы можем вообразить, не может сделать наше суждение подозрительным. Напротив, более сильные аргументы против не возникают. Это должно быть проверено тем, кто хочет подтвердить истинность утверждения через собственный опыт.
§. 590. Как определяется отвращение.
Как только мы воспринимаем какую-либо вещь как плохую, мы начинаем от неё отвращаться. Ибо в тот момент, когда мы представляем себе что-то как негативное, возникает достаточная причина для этого отвращения (§.586). Следовательно, мы действительно отвращаемся от этой вещи (§.118 Онтология). Здесь стоит повторить то, что было сказано в предыдущем разделе.
§. 591. Объекты чувствительного влечения.
Если мы испытываем удовольствие от чего-либо, наше влечение направляется к этому объекту, и мы стремимся к нему, пока согласны с понятием блага. Если мы получаем удовольствие от какой-то вещи, мы воспринимаем её как хорошую, пока мы основываемся на суждениях чувств (§. 561), и таким образом, остаёмся в согласии с понятием блага (§. 536). Но как только мы представляем себе какую-либо вещь как хорошую, наше влечение к ней усиливается (§.589), и из идеи блага возникает чувствительное влечение (§. 580). Таким образом, если мы получаем удовольствие от чего-либо, мы стремимся к этому, пока согласны с его идеей.
Это подтверждается на практике. От пищи с приятным запахом мы получаем удовольствие: как только мы видим ее, мы вспоминаем о ее вкусе и начинаем желать ее. То же самое происходит с приятным ароматом цветка; увидев его и почувствовав его запах, мы снова начинаем его желать. Младенцы привлекаются сладким вкусом. Они стремятся к тому, что сладкое.
Поскольку большинство людей имеют представление о добре и, следовательно, склонны удовлетворяться им, в целом все судят о вещах в соответствии с тем, что они знают, особенно когда объект сначала представлен чувствам или воображению через примеры, которые подтверждают это утверждение, настолько очевидные, что никому не мешает случайно испытать это на себе, как только возникает желание.
§. 592. Объект отвращения.
Когда мы испытываем отвращение к чему-то, мы отворачиваемся от этого, пока остаемся в неясном восприятии зла. Если мы воспринимаем что-то как зло, мы продолжаем это ощущать до тех пор, пока полагаемся на наши чувства (§.573), и, следовательно, остаемся в нечетком понимании зла (§.536). Однако, как только мы начинаем воспринимать нечто как зло, мы отворачиваемся от этого (§590), и из этого нечеткого представления о зле возникает наше чувствительное отвращение (§.582). Таким образом, если мы чувствуем отвращение к чему-то, мы отворачиваемся от этого, пока остаемся в неясном восприятии зла.
Это также подтверждается на практике: новички в начале испытывают отвращение к усердной работе, и мы не будем углубляться в причины этого. Но им очевидно, что они отвергают усердие и надежность, и если не будет другого стимула, они становятся небрежными. Таким образом, очевидно, что они отвергают усердие не только потому, что испытывают отвращение к нему; но также это отвращение продолжается до тех пор, пока мы судим о усердии в контексте этого представления о зле, и пока не появляются другие причины, которые могут изменить наше мнение или отвлечь наше внимание от этого.
§.593. Понятие смешанного блага.
Когда мы воспринимаем какую-либо вещь как хорошую, в это представление о добре входят удовольствия, которые мы испытываем от этой вещи или которые мы ощущали ранее вместе с ней. Когда мы воспринимаем вещь как хорошую, наше воображение также восстанавливает образ удовольствия, которое мы уже испытывали, будь то от этой вещи или в сочетании с ней (§. 104). Эта идея может быть представлена в том виде, в котором мы её восприняли, и это могло происходить как долго, так и часто (§.107). Мы также можем вспомнить это благодаря памяти (§. 175), и таким образом мы осознаем, что ранее испытывали это удовольствие от этой вещи или вместе с ней (§.173). На самом деле удовольствия, которые мы получаем в разное время от этой вещи или вместе с ней, воспринимаются в соответствии с гипотезой. Поскольку ты сосредотачиваешь всё внимание на вещи, по этой гипотезе нет причин, по которым одна память должна быть важнее другой, и, следовательно, все они должны восприниматься одновременно. Поэтому, когда несколько удовольствий воспроизводятся одновременно и не различаются, они формируют некое смешанное понятие (§. 39). Люди, которые основываются на своих чувствах и согласны с понятием смешанного блага (§.54), делают вывод о добре, исходя из того, что получают удовольствие от этого (§. 561). Таким образом, это смешанное понятие, которое включает удовольствия, полученные от данной вещи или ранее воспринятые из неё, является той самой идеей, с помощью которой мы представляем эту вещь как хорошую. Следовательно, когда мы воспринимаем вещь как хорошую, в понятие блага входят удовольствия, которые возникают из этой вещи или были восприняты вместе с ней ранее.
Тем не менее, это становится очевидным лишь после опыта, если вы умеете развивать неясные идеи, чтобы ясно увидеть, что они содержат. Представим, что Тиций смотрит на вино в стеклянном бокале; его память будет наполняться удовольствиями из разных моментов, частично от вкуса вина, частично от разговоров с гостями или по другим причинам, которые он воспринимает между глотками. Когда же нужно объяснить, почему глоток вина считается хорошим, вы заметите, что можно привести то одну, то другую причину, в зависимости от того, на какую конкретную деталь он направляет своё внимание (§. 109). Более того, вы обнаружите, что несколько причин могут накапливаться, иногда не совсем согласуясь друг с другом, в зависимости от того, как внимание последовательно переходит от одной воспринимаемой детали к другой (§. rit.). Поэтому, если кто-то захочет подтвердить истинность данного утверждения на основе личного опыта, ему следует быть внимательным к развивающимся неясным идеям, последовательно направляя своё внимание на каждую деталь, содержащуюся в текущем восприятии. Так они, как бы сами собой, будут представляться, и под воздействием воображения восприниматься как присутствующие, если только вы не будете нетерпеливы в размышлениях о текущем предмете и внимании к образам, созданным воображением. Однако это терпение в значительной степени приобретается через практику и другие предшествующие привычки, такие как привычки размышления, внимания и проницательности, как каждый сможет испытать на собственном опыте. Максимальное значение имеет текущее предложение в области морали. Дело в том, что понятие блага оказывается наиболее обманчивым, так как в него входят удовольствия, которые либо вовсе не воспринимаются, либо, по крайней мере, не могут быть восприняты одновременно. Таким образом, благо кажется более значительным, чем на самом деле, даже если мы опираемся на наши чувства. Поэтому очень важно научиться распознавать запутанные восприятия блага, чтобы, осознав обманчивую природу этих восприятий, нам было проще их избегать. На самом деле, изучив несколько примеров, показывающих, какие восприятия обладают такой обманчивой силой, мы сможем более осторожно относиться ко всем запутанным представлениям о добре.
§. 594. Понятие смешанного зла.
Когда мы воспринимаем вещь как зло, в нашу идею зла входят любые скучные ощущения, возникающие от этого предмета или которые мы ранее ощущали вместе с ним. При восприятии вещи наша фантазия должна воспроизвести также и скучные ощущения, которые мы уже воспринимали, как от этого предмета, так и вместе с ним (§. 104). Через память мы распознаем эти ощущения (§. 175), и таким образом осознаем, что ранее воспринимали их от этого предмета или вместе с ним (§. 173). На самом деле скучные ощущения, воспринятые в разное время от этого предмета или с ним, были сформированы через гипотезу. Поскольку ты направляешь внимание на всю вещь одновременно, также через гипотезу, здесь нет причины, почему одна память должна преобладать над другой, и все воспоминания должны действовать одновременно. Поэтому, когда идеи нескольких скучных ощущений одновременно воспроизводятся и не могут быть различены, они формируют некое смешанное понятие (§. 39). Люди, полагающиеся на свои чувства, соглашаются в восприятии смешанного зла (§. 275) и судят о зле по скуке, которую они ощущают (§. 573). Таким образом, эта смешанная идея, которую скучные ощущения, воспринятые от данного предмета или часто с ним, включают, является той самой идеей, с помощью которой мы представляем этот предмет как зло. Следовательно, когда мы воспринимаем предмет как зло, идеи зла включают любые скучные ощущения, возникающие от этого предмета или ранее воспринятые вместе с ним. Тем не менее, это подтверждается и позже, если ты умеешь развивать смутные идеи: представим, что Титий смотрит на вино в стеклянном бокале, и ранее уже неоднократно выпивал слишком много, что снова вызывало рвоту; на следующий день он ощущает слабость во всех суставах, головные боли, тошноту от вина и множество других недомоганий, вызванных пьянством. Увидев вино, все эти воспоминания вновь всплывут в его памяти. Поэтому, когда нужно будет объяснить, почему пить много вина считается плохим, это будет возвращаться то тут, то там, и накопится множество причин, как в предыдущем случае, что ты воспримешь.
Что касается предыдущего утверждения, его также следует повторить здесь. Кроме того, важно помнить, что с одной и той же вещью воспринимается то, что воспринимается, будь то это в ощущении или воображении. Отсюда возникают недомогания, связанные с тем, что было воспринято, поскольку они соединяются с вещью, которая вновь вспоминается. Например, предположим, что ты в состоянии пьянства не помнишь того, что должно было оставаться в тайне, и на следующий день Титий создает тебе беспокойство из-за того, что ты сказал то, что повредило его судьбе; из этих беспокойств ты ощущаешь недомогание. Вспомнив, что ты в пьяном состоянии выдал то, что должно было быть скрыто, и поэтому у тебя возникает беспокойство; ты рассматриваешь пьянство как причину своих недомоганий и связываешь идею недомогания с чрезмерным употреблением вина, откуда и возникло пьянство, так что, размышляя об этом, недомогание приходит на ум.
§395. Как усиливается чувствительный аппетит.
Если несколько удовольствий исходят от какого-либо объекта, или когда с тем же самым ранее воспринята идея блага, наше стремление становится сильнее, чем если бы удовольствий было меньше. Мы стремимся к чему-то постольку, поскольку это приносит нам удовольствие, когда мы успокаиваемся в смутной концепции блага (§. 591). Если несколько удовольствий исходят от какого-либо объекта, или когда с тем же самым воспринята идея блага, то эта идея оказывается смутной (§. 39). Из каждого удовольствия возникают отдельные стремления, которые смешиваются в одно, не менее чем сами удовольствия, из которых они происходят. Если вывод еще не кажется очевидным, он становится более ясным. Предположим, что в идее блага содержатся удовольствия A, B, C и D, всего четыре, но различающиеся по степени. Если вы сосредоточитесь на удовольствии A, возникнет стремление H, и так же, если вы подумаете о удовольствии B, возникнет стремление I; если вы подумаете о удовольствии C или D, возникнет стремление K или L (§.591). Когда в идее блага находятся удовольствия A, B, C и D, и вы обдумываете их одновременно, то ничего не мешает тому, чтобы из каждого удовольствия возникали свои стремления. Более того, если все удовольствия присутствуют в вашей идее, это создает достаточную основу для всех стремлений, которые возникают из каждого, и все стремления H, I, K и L также должны быть учтены (S.118 Ontol.). Поскольку они одновременно возникают и стремятся к одной цели, несколько стремлений формируют общее желание, и таким образом, как бы одинаковое количество частей этого желания приходит к согласию (§. 341 Онтология). Поэтому постоянное стремление, состоящее из стремлений H и I, является частью более широкого постоянного стремления, состоящего из H, I, K и L, как показано ранее; постоянное стремление из H и I меньше, чем постоянное стремление из H, I, K и L (§. 352 Онтология). Действительно, постоянное стремление из H и I возникает, когда в концепцию блага входят удовольствия A и B; в то время как постоянное стремление из H, I, K и L формируется, когда в концепцию блага включаются удовольствия A, B, C и D, как было показано. Следовательно, если в концепцию блага входят несколько удовольствий из какого-либо объекта, или если те же удовольствия были восприняты ранее, то стремление будет больше, чем если бы в нем содержалось меньше. Таким образом, становится очевидным, как стремление может становиться все сильнее, если оно повторяется чаще, когда та же самая вещь предлагается для стремления.



