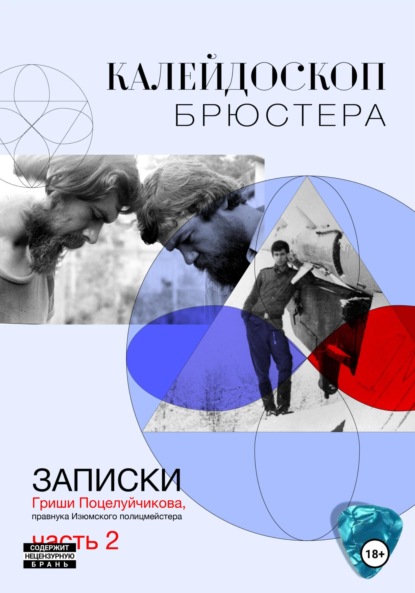
Полная версия:
Калейдоскоп Брюстера
Среди частей, куда мы могли попасть, самыми плохими считались родные нам отныне химические части. Это значило иметь до конца службы учения, противогазы и хлорпикрин. Самыми лучшими были маленькие химподразделения в других родах войск. Там ты становился белой вороной без всякого начальственного контроля.
Перед самым отъездом Генка с Гусем подарили мне свое фото с обнадеживающей подписью:
Григорий, верь!
Придет пора – казармы рухнут!
И друзья бутылку водки разобьют
О наши бренные тела.
Нас в цепи воли закуют,
Благословят на славные дела.
Гусь и Генка попали в химические части, а я – в ПВО.
Правда, у Гуся через полгода все наладилось, и он вновь стал художником, с бонусом в виде отдельного кабинета и мягкого дивана. И даже от щедрот слал Генке посылки с пропитанием.
С Генкой мы переписывались до конца службы, а с Гусем передавали друг другу приветы.
После возвращения в Москву дружба у нас не заладилась.
У Генки умерла мама, он женился и переехал в новую квартиру к черту на куличики – в Выхино. Он оставил свои гуманитарные замашки и вернулся на прежнюю стезю. Пора умственных метаний закончилась.
Они с Гусем были на два года меня старше, и в армии Генка занял по отношению ко мне покровительственно-учительскую позицию. На гражданке нужно было находить какой-то иной стиль отношений. Но он никак не складывался. К тому же его отпугивало мое пьянство. Видеться мы стали крайне редко.
Гвоздь в крышку забил я. В пору увлечения диссидентством я приехал к Генке с кучей правозащитных новостей. И он явно струхнул.
Потом наступила иная эпоха. И Генка, забрав семью, переехал в Израиль. И пропал навсегда.
У Гуся я один раз после армии был дома на большой гулянке. Он вел богемный образ жизни и целиком был погружен в театрально-киношные дела. И еще почему-то его занимал балет.
Домой меня глубокой ночью от него довезла дочь академика ВАСХНИЛ на сталинской машине типа ЗИС. Автомобиль был в прекрасном состоянии, а дочка – само обаяние. Светские достижения Гуся были явно не ниже армейских.
Я же продолжал удерживать первенство по части болезней, не вылезал из больниц и плохо вписывался в бурную жизнь Гуся.
Потом, в конце 80-х, я увидел его по телевизору вместе с Лужковым – тогда заместителем мэра Москвы. Гусь жаловался на то, какие трудные настали времена. На одни подгузники для сына у него уходила чертова уйма денег. В свободной продаже тогда подгузников не было.
В следующий раз я о нем услышал, когда наши банкиры и финансисты заявили, что могут накормить Москву. В магазинах тогда было шаром покати. Среди подписавших заявление был Гусь. Сама задача тогда представлялась безусловно невозможной – как можно накормить миллионы людей? И могут ли с этим справиться какие-то предприниматели, если за столько лет у советской власти ничего не получилось?
Вместе с тем фамилия Гуся вселяла надежду. Если он сказал, значит, это возможно.
Потом Гусь стал олигархом. Я пару раз передавал ему приветы через общих знакомых.
А затем он тоже уехал.
Остались воспоминания. Одно из самых неожиданно приятных – о наших забегах на длинные дистанции.
Я бегал в те годы неплохо, но максимально на 800 метров. На большие расстояния мне не хватало дыхалки.
У нас же была обязательная программа в виде трехкилометрового кросса по пересеченной местности – за городом, по полям и лескам.
Метров через 500 мы безнадежно отставали от основной массы и далее шли пешком. И почему-то нам втроем во время этих походов было очень хорошо и весело. Мы шли не спеша, подшучивая друг на другом. Меня они называли «мотыгой» или «корягой морской». Я, никогда не любивший прозвищ, особо не возражал.
У нас была одна доля в молодости: СССР в начале 70-х, армия, сержантская школа химической разведки и этот кросс.
Мы были абсолютно равны. Внешне отличались тем, что один был толстый, другой – тонкий, а третий – длинный.
Хотя по сути это только увеличивало наше равенство.
(армия, друзья)
Друзья и враги
Когда я служил в армии в Ивано-Франковской области, моему пункту химической разведки был придан пулемет. Пулемет был тяжелый, образца 1944 года.
Лишь только я его увидел – сразу вспомнил историю из детства. Однажды друг отца дядя Дима Сарабьянов заговорил об армии. И упомянул, что всем призванным на службу должны вручать оружие. Мой старший брат слушал его, слушал, а потом выдал гениальный совет: «Пойдешь в армию – проси пушку».
Мой пулемет как раз слегка напоминал пушку. Когда объявлялись учения, я должен был переть его на свой пункт через лес, а это – километра полтора. Для этих целей мне давали помощника, и все равно, всеми правдами и неправдами, я от этого пулемета отнекивался. И иногда начальство благосклонно разрешало использовать несравненно более легкий ручной пулемет Дегтярёва. Но в редких (к счастью) торжественных случаях все должно было быть по форме.
И вот как-то в начале марта у нас объявили учения с проверяющим из штаба армии. Тут уж деваться было некуда.
Мы доперли пулемет, развернули, сидим – ждем. Подходит проверяющий вместе с командиром дивизиона. Я докладываю по форме. А дело в том, что этот мой пункт химической разведки одновременно был назначен пунктом авиационной разведки. Мы в горах, обзор прекрасный. И стрелять из этого пулемета я должен был не по сбрасываемым химическим снарядам, как можно было подумать, а по вражеским самолетам. Причем часть у нас – ракетная. И из пулемета я добивал бы как раз те самолеты, в которые не попали выпущенные нами ракеты Земля–Воздух. В крайнем случае – уничтожал бы десант в воздухе, если бы таковой образовался.
В бункере у меня был стенд с изображением основных вражеских самолетов, который во время учений я вытаскивал наружу. Проверяющий посмотрел на стенд, подошел к пулемету, поковырял его пальцем. Это как раз меня не удивило, потому что мой пулемет был самой любимой игрушкой в дивизионе. Ракеты мало кого интересовали. А вот пулемет… Большой… Железный… Пробуждающий детские воспоминания. Никто не мог устоять.
И тут проверяющий мне приказывает:
– Доложи боевую задачу.
Я начал.
– Ладно, сержант, а куда ты будешь стрелять из этого пулемета в случае начала военных действий?
Я бодро подхожу к стенду и указываю на него пальцем.
– Вот, – говорю, – скажем, – F-4…
Проверяющий хмыкнул.
– И много ты собираешься настрелять из него этих F-4?
– Как получится, товарищ полковник, сколько прилетит – столько и постреляю.
А надо сказать, что скорострельность у моего пулемета – доложу я вам. Как у рогатки.
– Пойдем-ка со мной, сержант.
Мы с ним поднялись на гребень над моим подземным пунктом.
– Вот смотри, сержант, оттуда, если начнется война, из-за того перевала на тебя полезут вуйки5. Причем полезут точно с такими же пулеметами, они у них хорошо закопаны, в полной смазке. Так что свой пулемет ты не ставь в бункер, а тащи на гребень. И по ним прямой наводкой: тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та… А F-4 – пускай летят. Ты на них вообще не смотри.
– Задачу понял, товарищ полковник, F-4 пропускать в тыл, а всю огневую мощь обрушить на вуек.
– Молодец, сержант, ты – понятливый. Хвалю.
– Служу Советскому Союзу!
– Ладно. Вольно. Иди к своей железяке.
P. S. Почему-то все полковники, которых я встречал во время службы в Советской армии, были как на подбор. Башковитые и, я бы сказал, – человечные. Начальник нашей химической школы в Белгороде – толстый, еле в новую «Волгу» влезал, а глаза были умные. Мой шеф на Западной Украине – начальник химической службы военного округа. Удивительный дядька! Я у него во Львове дома был на Новый год, и он принимал меня как сына. До сих пор жалею, что не заехал к нему, когда уходил на дембель. И этот проверяющий из штаба армии в Киеве – настоящий провидец! А вот лейтенанты-капитаны – прямо швах! Пробы ставить негде. Откуда брались эти полковники в СССР, из кого и как вырастали – убей не пойму!
(Украина, армия, ХХ век)
Десять суток на губе
Вопрос о том, где купить выпивку, в нашей части решался просто.
Как выйдешь за ворота и пойдешь направо, – придешь в село Цинява. Для этого нужно по мосту перейти речку Дуба, потом еще раз направо и дальше все время прямо по дороге.
А если налево пойдешь – придешь в село Ясиновец. Это путь в горы, поэтому вверх, но зато ближе, чем Цинява.
Но через ворота, по понятным причинам, мы ходили редко.
Наш 4-й ЗРДН (зенитно-ракетный дивизион) возник на этом месте в 1961 году.
Его основная боевая задача состояла в прикрытии воздушного пространства над городами Стрый и Долина.
Территория дивизиона была очень большой. Недалеко от КПП – казарма, а затем дорога уходила в лес, где располагался подземный бункер управления дивизиона, радиолокационная станция и различные боевые службы.
Эта часть, вытянувшаяся в сторону Ясиновца, была своего рода амфитеатром, а в партере стояли ракеты С-75М «Волхов» на пусковых установках. Слева от них – склады с горючим и хранилище ядерных боеголовок. Несколько наших ракет могли ими заряжаться.
Вся территория была обнесена колючей проволокой, через которую мы делали проходы.
За забором внизу – засохшее болото. Именно через него мы бегали в Циняву. Речку переходили по мосткам. Но весной наша река Дуба разливалась – с гор на равнину бежали потоки воды. Порой настолько бурные, что сносило мост через реку – единственный наш путь в цивилизацию. И тогда наш дивизион превращался в остров, а мы начинали жить, как потерпевшие кораблекрушение. Спасал нас только маленький магазинчик в селе Ясиновец.
ххх
В апреле 74-го года наш дивизион уехал на боевые стрельбы в Казахстан. На месте остались только те, кто не нужен был на учениях и должен был поддерживать ежедневную жизнь дивизиона – охрану, питание, порядок.
То есть, замполит, как человек бесполезный – в качестве командира, прапор – медбрат, и я – химик. Пару шоферов. Взвод солдат, не вылезавших из караула. На круг – человек двадцать–двадцать пять.
И тут на беду наша Дуба разлилась и снесла под чистую мост по дороге в Рожнятов. Болото между нами и Цинявой залило водой, мостки тоже снесло.
И мы оказались в западне. Дежурные по части стали вечными, потому что их нельзя было сменить. Буквально за несколько дней дивизион разложился до атомов. Отменили построения, проверки, караул открыто дрых на посту.
Почти все карагандинцы уехали на стрельбы, и мы целыми днями загорали (в прямом и переносном смысле) с Роландасом (прозываемым также Рольфом) – моим другом из Каунаса. Били баклуши и придумывали, чем бы себя занять.
И тут грянула пасха. Утром ко мне в каптёрку зашел прапор, исполнявший роль начальника караула. И используя всякие экивоки, попытался выяснить – не собираюсь ли я в Ясиновец в винный магазин по случаю большого праздника. «Мол, тогда он бы нас попросил купить и для него чего-нибудь…»
У нас с Рольфом как раз кое-что было отложено на этот случай. А тут – дежурный прапор решил сам отправить делегацию от воинской части.
Судя по сумме, которую вручил мне прапор, они решили отметить праздник вдвоем с дежурным офицером.
И мы с Рольфом отправились в Ясиновец. Ни он, ни я не имели понятия, как празднуют пасху в карпатских деревнях.
Честно говоря, никаких особых ожиданий у нас не было. Села вокруг были не то, что бедные, но уж точно небогатые. Любимая поговорка местных: «Ровер маешь – файне живешь!» Это как бы полушутливый предел богатства.
Поэтому и пошли мы не как на праздник, а по-домашнему, то есть расхристанные – в бушлатах, сапоги нечищеные, подворотнички не подшиты.
Пару изб мы проскочили, хотя видели, что двери открыты настежь. А из третьей избы выскочила женщина:
– Солдатики! Идите в хату! Посвяткуйте з нами!
Что-то такое. Мы переглянулись. А она уже тянула нас за рукава. Вошли в большую комнату. Во всю длину стоял накрытый стол. Чего только на нем не было!
У нас с Рольфом разбежались глаза от угощений!
Пасхи (куличи) – большие и маленькие, писанки (яйца), пирожки, домашние колбасы, ветчина, сало, сыр, мед – всего перечислить невозможно. И горилка, конечно!
Хотелось попробовать всего – хоть по чуть-чуть!
Хозяева были радушны до такой степени, что нам стало неловко. Сажали, обхаживали, и готовы были кормить хоть целый день. Но мы сослались на дела службы и только под этим предлогом нас отпустили.
Хватило нас на три избы. В последней мы решили не кусочничать, а просто – выпивать и закусывать. Оба выбрали в качестве закуски домашнюю колбасу (кровяную, с гречневой кашей и чесноком) и копченое сало.
Яиц и пасок нам надавали с собой. После третьей избы мы нырнули в магазин. А там, как назло, сидели мужики, которые тоже захотели нам налить.
В часть мы ввалились с подарками. Отдали вино прапору, свое спрятали, и отправились спать. Вечером устроили угощение для нескольких приятелей.
До полночи из моей каптёрки раздавалось на всю казарму хоровое и победное: «Христос Воскрес!!!»
ххх
В Циняву мы не очень любили ходить, потому что там жил наш прапорщик-завхоз. И не раз и не два, пока мы болтались по селу, кто-то звонил в дивизион. И когда мы возвращались, нас уже ждали.
С этим болотом и прапорщиком связана одна забавная история.
Проходом через проволочный забор пользовались не только мы. Все, кто направлялся в Циняву, – шли через него. И, прежде всего, сам прапорщик ходил через него домой – не делать же огромный круг по дороге!
И вот одним погожим деньком мы собрались в цинявский магазин. Идем себе, болтаем и вдруг из-за деревьев видим у забора какое-то шевеление. А надо сказать, что периодически начальство приказывало эти проходы заделывать.
Скрытно приближаемся. И перед нами открывается феерическая картина!
Уже за забором – две фигуры: наш прапорщик и командир дивизиона.
И так надо понять, что прапор во все лопатки улепетывает от командира.
Все болото было в травяных кочках. Можно было, конечно, идти и не обращать на них внимания. Но кочек было много, ноги путались в траве, и все время кто-нибудь спотыкался. К тому же, между кочками иногда можно было провалиться в торфяную ямку, особенно после сильных дождей. А если стояла сухая погода, каждый шаг поднимал облака торфяной пыли – очень прилипчивой, которая мгновенно облепляла сапоги и брюки. Все понимали – откуда ты пришел, и отчистить ее было нелегко. Поэтому мы выбирали смешанный стиль – в одном месте прыгали с кочки на кочку, а в другом – шли обычным макаром.
Но прапор был местный и, видимо, знал, что быстрее и вернее – прыгать.
И вот он, как заяц, – прыг-прыг, а за ним, но уже явно отставая, – прыгает командир дивизиона.
Но завхоз не просто прыгает. На вытянутых руках перед собой он держит несколько картонных лотков с яйцами.
И тут наш командир, осознав, что завхоза ему не догнать, останавливается и издает истошный крик:
– Прапорщик Дырив! Остановитесь!!! Я вижу, что вы украли яйца!
Но наш заяц-прапор даже не обернулся и так с яйцами и упрыгал за горизонт.
Командир дивизиона повернул обратно, а мы в это время катались по земле, надрывая животы от смеха.
К слову сказать, яйца эти были из рациона наших «ядерщиков», которые работали с крайне токсичным топливом для своих ракет и поэтому получали доп-паек.
ххх
Попадались на выпивках и самоволках мы нередко, но все равно остановить поток бродящих по округе солдат никакие внушения не могли.
Один из самых обидных случаев произошел накануне моего дембеля. Я еще был в больнице, а мой призыв отмечал 100 дней до приказа. И их накрыл дежурный офицер. Из-за этого меня как следует не сумели проводить. Я вернулся в часть, буквально в три дня обернулся и уехал домой.
Правда, от этого случая осталась гениальная объяснительная, которую накатал по горячим следам мой ближайший друг:
«Я ефрейтор Лучер Леопольд Роландович 22 декабря в 1:00 совершил грубое нарушение дисциплины воинов советской армии, т. е. выпил спиртного напитка. О совершившемся известно вышестоящему начальству и я считаю что нарушение действительно является грубым, хотя на боевую готовность в данный момент мое состояние не повлияло, поскольку я был не совсем в тяжелом состоянии чтобы не обеспечить боевую готовность. Хотя выпивку как безвредное влияние на боевую готовность я не отрицаю. Выпил я по поводу небольшого юбилея хотя в армии этот юбилей не установлен как официальный юбилей. Это можно сказать личный праздник а о личных праздниках судить нельзя так как у каждого человека есть свои личные праздники»6.
Тут все – и боеготовность, на которую всегда особо напирало начальство. «Ты – пьяный, а если начнется война?» И неотъемлемое право на «личные» праздники.
Нельзя сказать, что мы исключительно ходили в магазин за вином. Бегали и к девушкам – у кого они были. А в жаркие дни почти каждый день ходили купаться на речку.
Летом и осенью собирали ягоды, грибы и орехи, но обычно за забор не выходили. Кстати, водилась у нас и разная живность. В сетках, которыми были прикрыты наши ракеты, часто запутывались зайцы. Но мы никогда не покушались на их жизнь, а всегда отпускали. За зайцами носились лисы. Как можно из этого понять – занятий и развлечений у нас была масса на самой территории части. И поэтому мы на многие часы исчезали из казармы помимо всяких самоволок. Иной раз просто валялись на траве, загорали и ничего не делали.
У офицеров была своя система слежки за нами, но отнюдь не всегда и не все выносилось в публичное поле.
Но если солдаты уходили надолго, или, не дай Бог, налетала внезапная проверка, объявлялась тревога или случалось построение, – включали на всю мощь сирену. Ее было слышно за многие километры – разносило горное эхо.
Бежишь порой по горной дороге и думаешь: по твою ли душу звонит? В смысле, – ревет сирена???
ххх
Но зачастую нам везло просто фантастически.
Как-то утром после большой пьянки я собрался в Ясиновец за пивом. В местный магазин, который одновременно был забегаловкой, иногда привозили разливное пиво.
И почему-то пошел один. Ребята, вероятно, были чем-то заняты и ждали меня в части.
Это было воскресенье, из офицеров – только дежурный.
Ничто не предвещало никаких неожиданностей.
Набрав пива, я решил не лезть через проволоку, а внаглую пойти через КПП.
Махнув солдату на посту, выхожу в березовую аллейку, ведущую прямо к нашей казарме.
От КПП до казармы – метров 70 максимум.
Сразу скажу, что этот случай должен был закончиться катастрофой. Конечно, никто бы меня не убил, но скандал случился бы грандиозный. И все складывалось поначалу именно так, что иного финала быть просто не могло.
Итак, я иду, в руках у меня две сетки, в каждой – по две трехлитровых банки с пивом. Пилотки нет вообще, на плечи накинут расстегнутый бушлат.
Чтобы не было никаких других вариантов, на небесах решили в тот день наслать на меня слепоту.
Потому что я иду, смотрю куда угодно, но только не прямо перед собой. То есть, ни взгляда в сторону казармы, а все куда-то в сторону. Внезапно справа, в торце казармы, у котельной, я замечаю Фольца, который очень странно себя ведет. Он почему-то все время подпрыгивает и машет кому-то руками.
И выражение лица у него какое-то перевернутое. К чему бы это – думаю я.
И продолжаю, как «Титаник», двигаться навстречу своему счастью.
Вот-вот кончится аллея и я вступлю на асфальт плаца перед казармой. Продолжаю улыбаться Фольцу, у которого глаза совершенно уже вылезли из орбит.
И тут словно молния ударяет мне в башку. Я лишь слегка поворачиваю шею, выпрямляю свою дурацкую голову и вижу прямо перед собой ужасающую картину.
Ей-богу, как в страшном сне!
Вся часть – на плацу. Торжественное построение, более того, через секунду я понимаю, что именно сейчас происходит вынос знамени.
На расстоянии хорошего прыжка от первого стоящего в построении я резко разворачиваюсь на одной ноге и, не меняя темпа, на той же скорости, в несколько шагов, но уже внутренне находясь в состоянии полета, – выбрасываю свое тело и банки с пивом за угол казармы. Где немедленно попадаю в объятия Фольца.
Что случилось в этот день на небесах?
Сначала они наслали слепоту только на меня. Потом, видимо, боги поспорили и решили уравнять шансы и ослепить весь офицерский корпус нашего дивизиона. Плюс проверяющий.
Почему я так думаю? Дело в том, что мой проход через березовую аллею видел абсолютно весь дивизион – но только солдаты и сержанты. А офицеров словно парализовало, и они внезапно, как и я, стали вдруг смотреть все вместе в противоположную от меня сторону.
Когда я скрылся в направлении котельной, весь дивизион, как один, выдохнул воздух: «Ух!» Тут офицеры пришли в себя, но так и не поняли, в чем было дело.
Потом эта история стала обрастать впечатлениями – каждый хотел поделиться. И не было никого из стоявших в тот день на плацу, кто бы не говорил, что более торжественного выхода к строю они не видели никогда в жизни. Я шел, как маршал, даже не шел, а парил. Особо изысканные говорили о некоем сиянии, исходящем от меня.
Так или нет так – не знаю. Но потом разбираясь со своими чувствами, я осознал, что почему-то был очень счастлив в тот день, представляя, как ребята сейчас обрадуются разливному пиву, и как хорошо мы с ними проведем воскресенье.
Что уж говорить, что пива нам не хватило. Пришлось снова бежать в Ясиновец. Но меня не пустили – решили второй раз судьбу не искушать.
Был и небольшой разбор полетов. Прежде всего – с часовым на КПП, который меня почему-то не предупредил. По его словам выходило, что он просто растерялся, увидев меня, раскрыл рот от удивления, а потом, дескать, было уже поздно. Салага, что говорить! Мы его простили, хотя и строго указали, чтобы впредь докладывал по форме.
Кстати, почему в тот день не включили сирену из-за внезапной проверки, – так и осталось неизвестным.
Йося Фольц
Конечно, в части боролись с «моральным разложением» солдат, но возможности были ограничены. Увещевания и наряды – весь небогатый набор карательных мер.
Наша часть была очень маленькая (по штату – человек 200, а на самом деле – не больше 70), но и поблизости нигде гауптвахты не было. Ближайшая – в городе Стрый, еще – в Ивано-Франковске, ну, и во Львове, конечно.
Поэтому наше начальство всеми силами старалось не доводить дело до губы, а любыми способами разбираться с нарушителями дисциплины на месте, не привлекая особо ничьего внимания. А иначе получался скандал на весь белый свет.
Но попадаются такие солдаты, с которыми справиться бывает невозможно. Их охватывает что-то вроде весеннего обострения, или антисоциального безумия, и они начинают вообще отвергать навязываемые им правила. Таким у нас был Йося Фольц.
Он был моего призыва и попал к нам довольно поздно. Прежний повар ушел на дембель, и к нам перевели Йосю из другой части. Он был тоже из Караганды, как и большинство моих друзей. К трем немцам в моем призыве – Саше Детцелю, Леве Лучеру и Йосе Бенгарду прибавился четвертый.
Он мгновенно влился в наш дружный коллектив. Поваром он был отличным – пятого разряда, ресторанного класса. Правда, продукты у нас были не ресторанные, но поначалу и из них Йося творил чудеса. А моя жизнь стала почти счастливой!
Дело в том, что я имел к кухне самое непосредственное отношение. Наши командиры, понимая, что я являюсь в части кем-то вроде узаконенного бездельника, навешивали на меня разные другие обязанности. Сначала я стал председателем совета ленинской комнаты. Написал в результате один раз жалкую бумажку для замполита, что-то вроде отчета, – и затем забыл про эту обязанность навсегда.
А потом меня назначили командиром хозотделения. Таким образом, транспортные шоферы, каптёрщик и, конечно, повар, стали моими подчиненными.
Это была преотличная должность! Йося меня обкармливал. А кухня стала нашим клубом. Можно было, конечно, сидеть в моей каптёрке, но у нее был один существеннейший недостаток – она была расположена рядом с кабинетами всего дивизионного начальства – командира, замполита и начштаба.
Кухня же была самым отдаленным местом в казарме. Так что мы там выпивали, если было что, и жарили хлеб на масле, оставшемся после приготовления рыбы. Это было наше любимое лакомство!
Итак, мы с Йосей зажили на кухне роскошной жизнью. Но длилось это недолго.
Он сходу и скопом невзлюбил все наше начальство и первым делом повел борьбу за право отращивать усы и баки. А по вечерам, после рабочего дня, во время уборки кухни, во всю глотку распевал немецкие песни.
Поначалу Йося чуть не сутками торчал у плиты. И вдруг его словно какая-то муха укусила!



