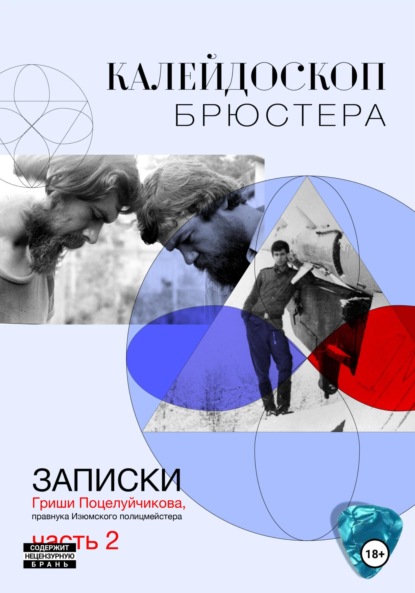
Полная версия:
Калейдоскоп Брюстера

Гриша Поцелуйчиков
Калейдоскоп Брюстера
Idem
Мороз
Настоящий мороз – лекарство. Он оживляет душу, будит воспоминания. У меня был любимый друг и сосед – Анвар. Во дворе со стороны школы стоял сарай высотой в два этажа, зимой он был заколочен, а летом там иногда продавали арбузы. И порой снегу наваливало столько, что мы забирались свободно на крышу сарая и сигали с другой стороны в сугроб. Пролетали целый этаж. С этой крыши нас согнать было невозможно! И рыбкой, и пузом, и на попу, и на бок, и обнявшись, и за руки! И через час-другой мы сами становились маленькими сугробами или большими снежками, которые летали туда-сюда – с крыши, бегом обратно, и вновь – вниз!
Узбекские глаза Анвара блестели посреди снега, как черные алмазы!
Когда мы возвращались домой, в одежде не было места, куда бы ни набился снег.
Обе мамы по полчаса выбивали из нас этот снег, а потом отправляли в ванну. И вот эта – обжигающая вода, даже прохладная, – на красное, размороженное-отмороженное тело! Затем – полотенце, чай, варенье…
– Мама, я пойду проверю, как там Анварчик? Не замерз ли?
– Сиди уж, его мама только что заходила, она укладывает его спать.
– Ну, мам…
– А-а-а-а, иди куда хочешь…
Вылетаю в подъезд в одних подштанниках, прыгаю на одной ноге, не попадая в ботинок, и звоню сразу во все звонки соседям.
– Н-у-у-у?! Как там Анварчик?!
(Дом преподавателей МГУ, зима, детство, друзья)
Разговор с внучкой
Мы идем по улице и разговариваем.
– Маша, а что тут еще объяснять? Просто я – человек с ранимой душой.
– Ого! – говорит Маша своим низким простуженным голосом, – это круто!
Что такое пафос?
Пафос – сродни умилению, с которым взрослые обычно смотрят на детей.
Вся в разница в том, что пафос обращен на самого себя.
Китайский мальчик
Не знаю, не помню, когда родился этот образ, но очень давно.
Я вижу себя, как в кино. Передо мной – толстый китайский мальчик лет двенадцати. Голый, загорелый, только на бедрах тряпка вместо трусов. Он сидит на берегу, сзади шумит море – желто-голубое. Песок твердый, мокроватый – после прибоя.
Этот мальчик – не актер. Это – я сам, но и – не я. И хоть ему двенадцать лет, но он сидит на этом берегу много, очень много лет. Может быть, целую вечность.
Перед ним – разноцветные стеклянные осколки. Их сотни, сколько хватает глаз – по всему берегу.
В них отражается солнце. Мальчик берет осколок за осколком, прикладывает друг к другу, по шву, по цвету, похожие откладывает в кучку. Таких кучек на берегу уже десятки.
Ничего не выходит. Но мальчик не останавливается ни на секунду.
По лицу струится пот. Губы его шевелятся.
Он спрашивает сам себя, он все время задает один и тот же вопрос: кто и когда разбил это зеркало?
(о себе)
Охотничьи спички
В самом начале 60-х появились охотничьи спички. Они были толстые, до половины покрытые серой, и могли гореть очень долго, наверное, и под водой. Справа от кинотеатра «Прогресс» был сигаретный ларек, где эти спички продавали. В принципе, их не разрешалось продавать детям, но мы как-то умудрялись их покупать. Стоили они дорого, если не ошибаюсь, копеек десять. Где бы ты ее ни зажигал – в темном коридоре, в ванной, на черном ходе, в подвале – эффект от зажженной охотничьей спички был потрясающий. Но веселее всего она сгорала, шипя и кувыркаясь, в лифтовой шахте.
И вот как-то с другом Санькой мы запускали их вниз с десятого этажа в моем подъезде, наслаждаясь полетом и свистом. И все сложилось не очень удачно. Мы не заметили поднимающийся лифт, бросили сразу несколько спичек, и он мгновенно по бокам вспыхнул огромным пламенем.
Лифт пошел вниз, а мы в ужасе бросились вон из подъезда. Когда добежали до первого этажа, лифт уже тушили. Все двери были открыты, а по площадке метался мужчина в майке, то забегавший, то выпрыгивавший из своей квартиры с ведром воды. Походя, он отвесил мне подзатыльник, явно поняв, в чем было дело.
Мы добежали с испугу аж до 18-го дома, и через добрый час, крадучись, вернулись в свой двор. Пожар был успешно потушен. Я плохо знал семейство с первого этажа и ожидал увидеть милиционера и рыдающую мать. Но все было тихо. Только в подъезде сильно пахло горелым.
(Дом преподавателей МГУ, детство, друзья, ХХ век)
Страх
Я не раз в жизни боялся. У меня бывали очень тяжелые сны в детстве, я боялся страшных рассказов и людей.
Мне было лет двенадцать. С двумя приятелями мы мирно покуривали в подъезде нашего дома. Было уже темно, но не очень поздно. Двор было плохо освещен, и, тем не менее, мы заметили внизу, между нашим и 68-м домом, а там в это время был пустырь, мелькающие тени. Присмотревшись, мы увидели, что двое парней, явно значительно старше нас, избивают третьего, причем бьют его чем-то странным, какими-то сетками. Парень припадал на одну ногу, отступал по пустырю и чего-то бросал в ответ, а они как будто не хотели его добивать, а зачем-то тянули время. Двое избивали одного, причем, били неправильно, чем-то страшным.
И нас троих, уже не таких маленьких парней, вдруг обуял ужас. Мы смотрели на эту сцену до той поры, пока тьму двора не осветили фары скорой помощи.
Во дворе уже собрался народ. Из тьмы выскочил наш знакомый, шпанистый парень, которого мы почему-то звали по имени-отчеству, – Юрий Палыч, поговорил с нами и все мгновенно понял. Я стоял рядом со скорой помощью и видел в свете фар, как подтаскивали к машине парня с густой шевелюрой и ужасными ранами, проступавшими сквозь нее. Били его по голове железными сетками, в которых развозили в то время треугольные пакеты с молоком.
Когда скорая помощь уехала, Юрий Палыч пробежал мимо нас, обернулся и крикнул: «Ну, что же вы … вашу мать!!!»
(Дом преподавателей МГУ, детство, страх, ХХ век)
К переписи населения
Во мне смешались три крови – русская (большая часть) и в небольших равных частях – польская и немецкая.
Самая сильная – польская.
Она все время чего-то выдумывает и строит воздушные замки. Немецкая – дергает польскую за рукав.
А русская периодически посылает первую и вторую куда подальше.
Все три – влюбчивы. Все три – не дураки выпить.
Немецкая любит посидеть дома, а русскую и польскую так и тянет на улицу.
Польская любит путешествовать, а русская – только до ближайшего леска.
Польская и немецкая обожают критиковать русскую и очень ею недовольны.
Польская и русская – бездомны. А немецкая тоскует по дому, но первые две не дают его завести.
Россию любят все три, но польская вечно ворчит.
Немецкая бывает счастливой, польская – никогда, а русская не имеет собственной позиции и все время оглядывается на меньшинство.
Все три ищут свое место с самого моего рождения, но найти не могут.
И поделили меня очень приблизительно: внешность и ум забрали польская и немецкая, а сердце и душу – русская и польская.
P. S. Старший брат моей бабушки, будучи сам наполовину немцем, до конца жизни ненавидел все немецкое – неважно, к какой из Германий оно относилось. Когда в 1963 году Вальтер Ульбрихт стал Героем Советского Союза, дед написал письмо Хрущеву с протестом против этого награждения. Отец, зная немецкий язык, любя немецкую литературу, старался избегать личных контактов с немцами, а когда ему предложили командировку в Берлин, сказал: «Нет! Я обязательно там полезу в драку».
(о себе)
День космонавтики
Я, как и все ребята, жившие рядом с Ленинским проспектом, бегал встречать первых космонавтов. Встречу Гагарина я пропустил, потому что лежал в больнице. А вот всех следующих – обязательно! Но, странным образом, эти встречи почти не остались в памяти. Что-то смутное – общий восторг и возбуждение…
– Видел? Не видел?
Самыми счастливыми были ребята, которые первыми приносили во двор известие о новом космонавте.
Мне могло повезти только однажды. В августе 62-го года я ухватил из радиопередачи самые первые слова, фамилию – Попович – и с криком понесся во двор. Лифт стоял внизу, и я побежал по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек. Сотни раз я бегал по этой лестнице и никогда не замечал острый железный уголок, который выступал на внешней стороне шахты лифта как раз на уровне моей головы. Я даже особенно не почувствовал удар, а просто сразу ослеп – кровь залила глаза.
Уголок скользнул по касательной, содрал кожу на лбу и пропорол глубоко одну бровь.
Мне стало очень страшно от того, что я ничего не вижу, – я решил, что выколол себе глаза. Поднялся на два этажа, держась за стенку, и стал колотить в дверь. Мама открыла и страшно закричала – все лицо и майка были залиты кровью. Тут зарыдал и я.
– Мама, мама, я выколол себе глаза!
Слава Богу, все обошлось. Шрам на лбу исчез со временем бесследно, и только над бровью осталась небольшая полоска.
Но я очень хорошо помню, почему именно Космонавт-4 вызвал такой восторг. За несколько дней до этого полетел Космонавт-3 – Андриан Николаев. И тут, почти сразу, – еще один! Гагарин, через полгода Титов – понятно… Но сразу – двое! Выскочив во двор, я закричал бы:
– Ребята, слышали – еще один! Попович! Скоро мы все – полетим!!!
(Дом преподавателей МГУ, космос, детство, ХХ век)
Дворовый диалог
Вылетаю во двор – рот полон соленых суджуковых слюней! И жуешь-сосешь суджук несколько минут. Подбегает друг.
– Дай пожевать!
– Да я ее всю обсосал.
– Неважно!
Садимся на железную изгородь во дворе (почему-то никогда не садились на скамейки) и начинаем жевать наперегонки.
– Все, я – первый! Я уже проглотил!
– Так нечестно. У тебя кусок был маленький.
– Так я за тебя ее полчаса жевал, у меня даже язык устал!
– Ах, ты гад!
– Сам – гад! Я тебе отдал большой кусок, а себе взял – маленький. Буду жевать в следующий раз – фиг тебе дам!
– Ну и жуй сам – хоть подавись! Не нужна мне твоя вонючая колбаса!
– И – пожалуйста.
– И – пожалуйста.
– Пойдем, что ли, мяч погоняем?
– Пойдем. Но колбасу все равно больше – фиг дам!
– Гад!
– Сам – гад!
(Дом преподавателей МГУ, детство, друзья, ХХ век)
«На графских развалинах»
Первый фильм, на который меня повели родители, назывался «На графских развалинах». По повести Аркадия Гайдара.
Мне было четыре года, я сидел, замерев, затаив дыхание, а ближе к концу спросил очень тихо:
– А где их мамы?
В нашем доме это фраза стала безумно популярна. И вопрос этот задавался много-много лет, по поводу и без повода, когда и происхождение его было почти совсем забыто.
И вот недавно я вновь посмотрел фильм по телевизору и сразу перечитал повесть. Фильм очень отличается от книги, причем есть вещи очень забавные.
В книге беспризорник ворует и убивает козла, а в фильме никакого козла нет и в помине, а ребята кормят беспризорника колбасой. Причем беспризорник не только ест эту колбасу без всякого удивления, но и кормит ею собаку по кличке Волк. В селе, сразу после Гражданской войны!
Но это не столь важно. В 57-м году можно было и не то наснимать.
Поразило меня другое. Забыв и книжку, и фильм, я в пяти-шести местах твердо знал, что будет через секунду: а вот сейчас он полезет на стену, а потом упадет!
Ведь до того, как я начал смотреть, во мне жили лишь смутные образы: развалины, стрельба, конечно, гениальные злодеи – Сошальский и Новиков. И вот вновь, опять с замирающим сердцем, я смотрю, как беспризорник Дергач лезет по сгнившей оконной раме, и мне хочется крикнуть: «Осторожней, сейчас она упадет в болото!» И правда – падает.
А вот уголовник Хрящ – сейчас в него выстрелят, и он упадет со стены. Болотная жижа расступится, а затем мгновенно сомкнется над его головой.
Прошло столько лет, и чего только в жизни не было! А это, может быть, самое страшное впечатление дошкольного детства, оказывается, никуда не делось и живет во мне в образах: высоты, развалин, падающей рамы, болота и графа со шрамом через всю щеку.
(кино, Гайдар, детство, страх, о себе)
К свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Почему-то именно на Первомай – один раз в году – девочкам шили новые платьица. Шили – это громко сказано. Толстая тетка из соседнего дома собирала их из каких-то обрывков материи – купить в послевоенной Москве новое платье было невозможно.
Очень рано, около 6 часов утра, родители уходили в типографию, где собирались колонны демонстрантов.
Днем они возвращались – веселые и подшофе. Дом украшали ветками березы, к которым были приделаны цветы из папиросной бумаги. Дети, размахивая флажками, отправлялись за подарками. Покупали: воздушные шары, «уди-уди», мячики из фольги и бумаги на резинке и уточек из воска. Уточки были разноцветные и плавали в тазах. Дома их тоже запускали в тазы, но у них довольно быстро отваливались головы.
Родители устраивали застолье, а дети выходили во двор. У каждого в руке был большой кусок пирога и какой-нибудь подарок. Все чинно ходили и берегли новые платья. Но к полудню подарки забрасывались, пироги съедались, и на смену приходили обычные детские игры.
Потом взрослые тоже выходили во двор, кто-нибудь выносил патефон, и начинались танцы и пение частушек.
Вечером молодежь – девушки и парни – уходили на Красную площадь. А дети к этому времени уже спали в чисто убранных комнатах под сенью букетов из березовых веток – уставшие, сытые и счастливые.
(Москва, Краснопролетарская улица, праздники, ХХ век)
Ветераны
Эта история случилась в метро. Поздно вечером мы ехали всей семьей из гостей. Брату было около двенадцати, а мне – восемь. В вагоне, кроме нас, никого не было. На одной из остановок заходит мужчина, оглядывается, подходит и встает прямо над нами. Держится за поручень и, не отрываясь, смотрит на нас с братом. Одна остановка, две, три. Едем молча.
И вдруг он начинает говорить быстрой скороговоркой, но довольно громко: «Почему вы – малолетние хулиганы – не уступаете ветерану место?»
Мы с братом не знаем, что делать. Встаем и пересаживаемся на сиденье напротив. Мужик разворачивается и опять нависает над нами.
Тут это замечает отец. Прислушивается к тому, что говорит мужик, подходит, хватает его за плечо и кричит: «Если ты, тыловая крыса, не отстанешь от моих детей, я тебе с большим удовольствием начищу физиономию от имени всех фронтовиков!»
Лицо у отца становится совершенно белым.
Мужчина мгновенно сдувается, ретируется в конец вагона и на следующей станции выходит.
Сколько живу, не понимаю, как мой отец, хоть и инвалид войны, так сразу и безошибочно определил, кто находится перед ним?
(Москва, отец, детство, ХХ век)
Маленький принц
На 9 мая бабушка уехала к сестре в Ленинград. Папа и мама День Победы обычно встречали в ресторане в компании смоленских друзей. В ресторан в этот день попасть было очень трудно, но дядя Витя был секретарем райкома партии, и для него таких проблем не существовало.
Шел 1960-й год. Был прекрасный, жаркий, практически летний, день. С четырех лет я болтался во дворе без всякой опеки – уходил после завтрака и возвращался затемно, часов в девять-десять вечера. Иногда мама вдруг спохватывалась и строго-настрого приказывала мне являться хотя бы к обеду. Но через неделю-другую все про это забывали, тем более, что мама была учителем, приходила домой ближе к вечеру, и дома, кроме старенькой бабушки, никого не было.
Странно, но почему-то мама и папа именно в этот день решили, что детей оставлять дома одних ни в коем случае нельзя. Мне было шесть лет, а брату – десять. И мама, не ведая, что творит, спросила свою любимую ученицу: «Таня, а что ты делаешь в праздник? Мы с мужем идем в ресторан, и за детьми некому будет присмотреть…» Таня училась в девятом классе. Просьбу о детях она пропустила мимо ушей, а вот побывать дома у любимой учительницы – как от этого можно было отказаться?
Договорились, что Таня придет к двум часам. К этому времени мама наготовила пирогов, салатов и накрыла стол. Таня была очень стеснительной девочкой. Папа и мама усадили ее за стол, для приличия посидели полчаса, выпили за Победу и укатили в ресторан «Будапешт».
Таня осталась одна. Пироги были вкусные, и папа заставил Таню выпить за Победу рюмку ликера «Спотыкач». Таня никогда не пила, и в голове зашумело.
В доме было тихо, и тут она вспомнила про детей. Мама, уходя, предупредила: если кто-нибудь из сорванцов явится, то постарайся их чем-нибудь накормить. Не явятся – не волнуйся, ешь, пей, делай, что хочешь, бери любые книжки, альбомы – смотри или читай.
Примерно через полчаса в дверь позвонили. На пороге стоял маленький светловолосый мальчик в шортах, сандалиях на босу ногу и разбитой в кровь коленкой.
Не здороваясь, мальчик отстранил Таню, прошел в большую комнату и отрезал два большущих куска пирога. Таня забилась в угол дивана, а мальчик исподлобья и, как показалось, неприязненно оглядел ее всю – с ног до головы.
Вскоре явился старший – видимо, младший сообщил брату, что дома сидит какая-то тетка и вот-вот съест все мамины пироги.
Через час раздался настойчивый звонок. На пороге стоял почтальон, который принес бандероль. В бандероли была книжка – «Сочинения» французского писателя Сент-Экзюпери. Таня не слышала этой фамилии, полистала предисловие и решила прочитать «Маленького принца». Уже через несколько минут она перестала думать о грубиянах-мальчишках, о неприятном, оценивающем взгляде младшего и забыла обо всем, механически подливая себе в рюмочку «Спотыкач».
Дети приходили еще несколько раз, хватали что-то со стола, но она уже не обращала на них никакого внимания. Ее унес от них «Маленький принц».
Когда поздно вечером папа и мама вернулись домой, они застали странную картину. Пироги были съедены, дети болтались неизвестно где, а дома была только счастливая Таня, бросившаяся с порога выяснять у мамы, читала ли она «Маленького принца».
Мама, немного беспокоясь о мальчиках, проводила Таню до полдороги домой.
Когда она вернулась, папа сказал: «Однако твоя девятиклассница выпила почти полбутылки «Спотыкача!»
Ровно через пятнадцать лет, накануне 9 мая, маленький мальчик с разбитой коленкой, выросший и ставший высоким и стройным юношей, сделал Тане предложение, и она стала его женой.
(Дом преподавателей МГУ, любовь, праздники, детство, ХХ век)
Восемь с половиной
Дитё мерит мир тем, чего у него больше. А я мерил меньшим.
Восемь с половиной пальцев моего отца на ногах и руках. Все, что осталось после фронта.
Именно это была моя мера – восемь с половиной.
(отец, детство)
Самые вкусные покупки
На праздник
Пирожные из кондитерской в Столешниковом переулке. В магазине всегда – давка. Приехать нужно вовремя – иначе можно попасть в неурочное время. Либо еще не завезли, либо уже раскупили. Покупатели, рвущиеся купить торт, а не пирожное, были особой, многочисленной группой «не близких» людей.
Мой же любимый список – корзиночки, картошка, эклеры.
Суджук из магазина «Армения» на улице Горького. С острым запахом пряностей и не снимаемой шкуркой – невозможно дождаться, пока ее отдерешь.
Набор красной рыбы из «Диеты» на площади Калужской Заставы – севрюги, белуги и осетрины. Какой величины кусок ни возьмешь – он всегда очень быстро кончался!
Баловство
Это то, чем отец или мать хотели побаловать – на зарплату. Или просто – по вдохновению.
Пирог «Невский» – продавался в больших кондитерских в центре. А в нашем районе – в буфетах в Дворце пионеров на Ленинских горах и в главном здании МГУ. Невероятной вкусноты булка. Крем был лишь добавкой, наградой к булке.
Коврижка – проложена вареньем, пышная, чуть горьковатая, пахнущая медом. Такие бывали только в центре. Ее обязательно нужно было запивать холодным топленым молоком.
Косхалва – первые кешью в жизни. Но только из лучших магазинов в центре! Сладкое окружение орехам только мешало.
Киевское варенье – сколько ни купить – всегда было мало. Дно большого бумажного пакета показывалось очень быстро.
Сливочная помадка с настоящими цукатами – буквально таяла во рту.
К этому же ряду относится то, что было трудно достать. И первая здесь – вобла. Ее периодически «выкидывали» в магазине «Рыба» у метро Университет. И продавали с заднего хода, во дворе, где мгновенно собирались гигантские очереди. Вобла была в больших тканевых мешках и вскоре ее запах распространялся по всему району. Я ни разу за детство так и не наелся воблы от пуза. Родители не любили воблу – она им напоминала войну. Разве что от какого-нибудь приятеля доставался кусочек спинки, а чаще всего – ребрышки или сухой хвостик.
На каждый день
Мороженое. Абсолютный чемпион – «Фруктовое» за семь копеек в стаканчике. За ним – крем-брюле и ореховое.
Конфеты – леденцы «Взлетные» и сливочные тянучки.
И те, и другие конфеты пропали еще при советской власти. А когда-то в «Кондитерском» в доме 18 их было столько, что казалось хватит на всю жизнь. Но не хватило.
Прошли годы. В середине 90-х я зачем-то заехал в Гуманитарный корпус МГУ на Воробьевых горах. И когда сделал все дела, вышел по старой памяти не через центральный вход, а через черный – с обратной стороны здания.
Сбежав по ступенькам, я сразу увидел ее. Это была бумажка, фантик от сливочной тянучки! Ошибиться было невозможно!
Я уставился на нее и замер, как охотничий пес. Сделал два шага. Еще! И дальше! Никогда не любил мусорящих граждан! Но тут я возблагодарил небеса, что они есть! Через каждые десять–пятнадцать шагов лежал фантик.
И так, по следам, я добрался до нашего Гастронома № 1. И тут сразу при входе почему-то, а не в самом магазине, продавали настоящие, уже подзабытые тянучки!
Я взял два с половиной кило – на все деньги, что у меня были. И направился мимо биофака в сторону дома. По ходу я жевал тянучки и разбрасывал фантики. Я был уверен, что кто-то обязательно поблагодарит меня за неинтеллигентное поведение.
Потом они стали встречаться и в других магазинах. И в тот момент, когда показалось, что тянучки вернулись к нам окончательно, – они столь же внезапно исчезли. Теперь, видимо, навсегда.
ххх
Буквально накануне исчезновения и под впечатлением от их появления во мне родилась безумная историософская мысль – что новое время возродит все хорошее, что было при советской власти.
Мысль эта ведь до ужаса проста. Если бы я был не я, а владелец кондитерской фабрики, – что бы я захотел немедленно сделать? Начать производить то, самое вкусное – из детства.
Или если бы я был владельцем хлебного предприятия, – тут же занялся ситниками, калорийными булочками, кренделями и столичным хлебом.
И колбасой, если бы я командовал чем-то там… И сыром… И ветчиной… И рыбой… И квасом! И газировкой!
Но этого нет – ничего!
В чем же дело? У них не было детства? Не захватывает сама идея? Нет старых компонентов, рецептов, кондитеров, кулинаров?
Мне говорят: масло – не то, мука – не та, сахар – не тот, сливки, молоко – не те.
Но ведь в стране был уже такой перерыв с нарушением традиций хлебопечения.
В 1923 году, согласно исследованию Московского санитарного института, продаваемый в Москве ржаной хлеб был негоден на 84%. Он содержал большое количество влаги, был загрязнен отрубями, а подчас и совершенно посторонними вещами – веревками, камнями, сором и т. д.
А было ведь еще хуже. Сравнивая хлеб образца 23-го года с недавним прошлым, современник пишет: «В 1919–1921 годах хлебом, который теперь и крысы есть не станут, питались целые губернии».
Потом был короткий период нэпа, а в 1928 году на хлеб, а затем и на другие продукты были введены карточки. Тут уже было не до изысков.
Но через семь лет – 1 января 1935 года – в СССР были отменены карточки на муку и хлеб.
К этому времени была расширена продажа хлеба – открыты новые булочные и палатки. Одновременно решили увеличить ассортимент хлебной продукции, чтобы довести его в Москве до 40–50 разных сортов. Хлеб пекли большие механизированные заводы и небольшие пекарни. Заводы, кроме обычных сортов, стали выпускать пеклеванный, минский и бородинский хлеб. Но, в основном, за разнообразие отвечали мелкие предприятия.



