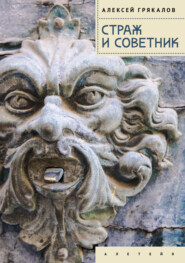скачать книгу бесплатно
А что за левым?
И вдруг тот, кто окликнул: «Вступай в партию!», позвал для разговора.
Я впервые видел вблизи настоящего сенатора.
– Знаешь, кто такой бэбиситор? – Он говорил мне ты, когда были вдвоем.
– Тот, кто сидит с детишками?
– Посидеть хочешь?
– И так сижу. Выпечка текста!
– Какого теста?
– Текста!
– За булку о Розанове дали тысяч двенадцать? Два года работы?
– И двадцать лет перед этим.
Да Розанов сам говорил: что за фамилья такая! Ни поэту, ни философу не подойдет! Вот для названия булочной хороша: дурак ты, Розанов. Ты б лучше булки пек!
Сенатор многое обо мне знал.
– Что о человеке говорят?
– О каком?
– Вообще… о человеке!
– Вслед за смертью Бога наступает смерть его убийцы. Человек умер! Стал точкой пересечения силовых линий! Исчерпал ренессансный запас! Гуманизм… это ограничение. Толерантность? – сплошной дом терпимости. Остались одни терпилы! Исчез человечек, как след на прибрежном песке! А чтоб совсем не пропасть, войны готовит. Сверхвера… у каждого своя.
Но Бог умереть не может, теперь нуждается в человечьей защите.
– Слушай сюда! – Он иногда впадал в родное херсонское интонированье. – У меня Горный Алтай за плечами! Охотники постреливают, духов зовут!
– Господин сенатор! – Единственный в таком качестве, которого я знал, был муж смертно влюбившейся женщины с прекрасным женским именем. Она бросилась под поезд. – Я только сказал, что все знают. И почему меня?
– Я в Сенате заседаю, губернаторы бывшие, генералы. Знаешь, что он мне сказал?
– Кто сказал?
– Президент! Завяли, сказал, почти все. Политологи, нынешние писатели. Служат… прислуживают. Остались одни философы! Только они бывшими не бывают. Ты в Хельсинки был?
– Был.
– Картина Симберга в музее, называется «Раненый ангел». Ты роман про питерскую ангелологию написал?
– Давно написал.
– А я недавно Президенту книгу Эрнста Юнгера подарил. Книга о всеобщей мобилизации! Ему нужен человек для разговора.
– А я при чем?
– Его заинтересовал Розанов! Ты книгу уже закончил. Хорошо продается?
– Говорят, хорошо.
– О Деве и Единороге тоже ты написал?
– Это совсем давно.
– Да я знаю даже то, что ты в Красноярске в бане болтал! Там рядом у пристани пароходик, на котором вождь из Шушенского приплыл? Сторож по десять рублей брал с парочек, пускал в тепло?
– По пятнадцать в морозы.
– Что болтал в бане? Приехал, мол, один друг на каникулы умник умником, спросил, был в отпуске Джон Дьяченко? Какой такой Джон? – В ответ спрашивают. – А-а… этот, да, был! – А кликуха у Джона? – Сенатор через стол поманил.
– Не помню! – Не верил я, что он мог знать про сибирские банные разговоры.
– Коо-зо…—На ухо совсем приглушенно. – Коозоо… люб! – Вбил три последних звука.
– Может, ничего не было!
– Короче, расскажешь о Розанове. Четыре-пять встреч! Зарплата сразу пойдет!
– Все пошло, что пошло. – Я скрылся за строчку.
Он учился на четыре курса старше. А если в человеке нет почтительности к старшим, китайцы с древних времен за человека не признают.
Дракон почтительности сохранял нравы.
Хохлушки и молдаванки по всему свету сидят за деньги с богатыми карапузами, почему бы мне не посидеть четыре-пять раз с самым главным при власти? Хайдеггер написал, что для нации важна абсолютная идея вождя. У прислужника из Туркестанского легиона в войну было звание цугфюрер – вождь повозки.
И я живу будто бы за всех, себя так держу – впереди только пустые страницы. И решил, что никуда из мест меж Пушкиным и Набоковым не двинусь. Розанов бывал в тех местах, дрова сам колол, а я сейчас покупаю. Розанов написал почти полсотни томов, тридцать пять уже опубликовано. Энциклопедия вышла, где сто тридцать ученых розановедов.
А я написал одну книжулю, пусть живет.
Да человека, о котором заказана книга, иначе как по имени-отчеству назвать нельзя. Ленин – по-горьковски прост, как правда, – Ильич, Сталин – товарищ Сталин, Брежнев – товарищ Брежнев Леонид Ильич, Ельцин… Ельцин, Медведев – мелькнул, Путин – Владимир Путин. А Василий Васильевич рассчитался со всем взбесившимся временем – опрокинул образы конца света на круговую жизнь. И мне теперь в ней кружить, хотя вряд ли прильну к чему.
Каждый человек заслуживает только жалости.
Но Сенатор есть сенатор.
– Еще про тебя рассказать?
– Не надо. – Я понял, что он знает про меня даже то, что я забыл.
– Тогда про себя. В школу идем по темноте, иней на спорыше. Дорога замерзла… Батя мой лучший наездник на Первомай, жеребец под ним зверь, женщины глаз не сводят! И я с ним герой. С соседом идем, на год старше. Мать у него кладовщица, заходим, она вдоль всей паляницы ломоть отрезает! Маслом намажет, а сверху медом. Идем, он ест!
– Тебе давал?
– Ни разу.
И я в уединенном трезвении.
По Киевскому шоссе, дороге из Петербурга в Киев, совсем не такой знаменитой, как путешествие из Петербурга в Москву, невозможному в анекдоте советского времени – лошадей в Калинине съедят. Давно не проносятся ямщицкие тройки, в бывшую столицу не правятся запорожцы-козаки на поклон к Царице, теперь только стремительно машины и могучие грузовики – кормить северную столицу. Дома вдоль дороги окнами мигают в ответ фонарям ночью, днем строго прижаты к месту. Но чуть в стороне от дороги Храм с голубой крышей, напротив деревянный дворянский дом через речку Грязну – стоят друг против друга. И если встать во дворе Храма, дорога хотя и совсем рядом, словно бы утрачивает силу, новейшая наука о скорости – дромология – становится беспредметной. И совсем другие силы неотвратимо и в лад со строениями, чуть в стороне сохранившийся каменный ледник, замедляя сегодняшний гон, выгоняют из потаенных углов свои времена. Именно гонят, иначе не вышли бы на свет божий своей почти совсем утраченной живой силой – тут провезли Пушкина в последний раз, сумрачно по утрам в монастыре монах зажигает свечи, даже монастырские колокола еще не проснулись. Справа от дороги на Киев часовенка в честь Козьмы и Дамиана, рядом ворота почтовой станции, где смотрителем служил Самсон Вырин. Во дворе колодец без воды, каменные корыта в зеленых следах последнего ливня, нетронутые зубами лошадей коновязи, каретный сарай – по стенам хомуты, дуги, колокольцы. Рубленые из могучих новогородских сосен постройки. И внутри дома кисейная кровать Дунечки, что согласилась на просьбу проезжего литератора дать себя поцеловать, – ни один из поцелуев, а всякий литератор любвеобилен, не оставил в его памяти такой первородной сладости. Дуню смотрителеву пленил и увез с собой проезжий гусар. Жизнь-печаль для смотрителя, жизнь Дуни благополучно устроилась – родила от гусара трех деток, в карете приезжала на могилку смотрителя, внуков смотритель никогда не видел. А от путешествующего свидетеля-литератора только памятный поцелуй в сенях да повесть, без нее ни нынешней кисеи над девичьей постелью, ни прогнавшего в шею старика-смотрителя благородного гусара со словами, что несчастный смотритель хочет его зарезать.
Ничего.
Речке Грязне даже не прожурчать: «Хороша я, хороша, да плохо одета»; на высоком берегу старинный особняк в бело-серой покраске, со стороны Киева обгорели колонны, оставлены чернью горелой в назиданье посетителям. Берега Оредежа, куда вливается заросшая осокой чумичка-Грязна, схвачены красным дивонским камнем – Набоков всю жизнь вспоминал словно бы опаленный подземным огневищем берег. И как раз в Сиверской лето проводил Розанов, пилил деревья на своем участке, чтоб не покупать дрова. Дорого! Тут художник Шишкин написал свои могучие сосны. А в глубине леса в конце разбитой дороги стоит старинная усыпальница, построенная героем войны с французами Витгенштейном для горячо любимой при жизни и после смерти жены. Теперь от имения только старые корпуса: в одном – психиатричка, в другом – туберкулезка, врачи после смены выходят угрюмые и усталые под темные ели – никогда никому из случайных встречных не взглянут в глаза.
Но в те депрессивные места не надо часто ходить – насельники не по своей воле, а страдание заразно.
Наезжают, правда, веселые пушкинисты, всегда чуть хмельные, путешествия любят под юбилеи – Петербург, Кишинев, Одесса, Москва. В Риме напечатали факсимильное издание Пушкина, он сам дальше пограничной речки Арзрум нигде не бывал. И элегантные европейские набоковеды – кто такая нимфетка Лолита? Просто недостижимое, литература, которую нельзя навсегда при себе оставить. С таким же успехом, как про Лолиту, Набоков мог бы написать про трехколесный велосипед – приводит слова Набокова ветеринар по образованию Ален Роб-Грийе, с которым захотел встретиться в Париже уже знаменитый автор: «Мы оба любим маленьких девочек».
И оба понимающе рассмеялись.
Почти ницшеански: убивают не оружием, убивают смехом.
Опустив колун на пенек, вытирает пот со лба Розанов: смехом никого нельзя убить. Смехом можно только придавить. И терпение одолеет всякий смех. И можно выуживать силу, как рыбку на рассвете из светлой и быстрой реки Оредеж – чудаковатые и похожие друг на друга розановеды бывают в этих местах. Только достоевсковеды промахивают мимо – стремятся в сторону Скотопригоньевска – Старой Руссы.
Между Пушкиным и Набоковым чуть в стороне от дороги, где на углу перед мостом часовня Фрола и Лавра, – только один раз видел ее открытой, теплилась внутри свечечка, можно тихо жить. Смотреть на жестокие поединки солдат – одна команда в синих трусах, другая в черных, – все по утренней форме по пояс голые. Но в это лето полк истребителей улетел в Мончегорск, военный городок рассыпается, в казармах выбиты окна – еще одно угрюмое место.
А Оредеж течет легко и быстро, Грязна вместе со светлыми водами, утратив собственные истоки, льется и разливается. Серафим Вырицкий, почитаемый православными, навсегда тут, в войну прямо сказал немецкому офицеру.
Убирайтесь, уходите, пока живые!
С аэродрома в Сиверской немецкие самолеты летали бомбить Ленинград.
Это место между Пушкиным и Набоковым удерживало рвущуюся в оба конца дорогу, будто тем, кто по ней стремился, не было пристанища ни с какой стороны. Но Авдотья Самсоновна с тремя детками, бонной и моськой здесь навсегда в своем посещении, гусар-соблазнитель прикидывался больным, проезжий литератор никогда больше в жизни не узнал такого сладостного поцелуя, как тот, что подарила в сенях Дунечка. Сын Набокова приезжал посмотреть на родственные места как раз после пожара, не дал ни рубля на восстановление, – упоминают в рассказах экскурсоводы.
Тут можно было жить среди несвятых и святых насельников, гром шелохнул издалека тишину и скоро туча приблизится к окнам. Окно было зашторено от солнца, а когда туча наляжет, можно штору отдернуть, бледнее станет тихое мерцание лампадки за левым плечом, совсем ненужно в громовом голосе что-то будут твердить два клинка – привезенная из Чечни шашка и позапрошлого века потомок самурайского меча-катаны в железных ножнах злой клинок кю гунто. И бездарно спиленные мной два отростка старой сливы теперь будто подпорки для оставшегося ствола – муравьям укрытие, шмелям прибежище до зимы. Тут в местах Пушкина и Набокова – первый по этому тракту в ссылку, на Кавказ… на погост, второй на велосипеде «Дукс» с карбидовым фонариком на свиданье к Машеньке. Можно смотреть на сливу, на течение Оредежа, на полет скворцов и на гнездо аистов, оставленное на одиноком столбе, – всегда один стоит в гнезде будто для таких путешествующих никогда не наступала усталость.
Книга о Розанове была закончена, главный розановед будто бы уже успел сказать, что это не Розанов на страницах, а тот, кто ее написал.
Да ведь каждый, еще раз повторю слова Розанова, достоин только жалости.
И он сам сказал, что надо не себя подстраивать под других, а других понимать через себя. У Розанова в доме была печка – топили в дождливые дни. А у меня в деревянном доме камин – существо на кирпичной основе: если вымыть стекло от копоти, видна чудесная игра огня осиновых и ольховых поленьев.
Два раза отсюда вызывали на офицерские сборы в Большой дом в начале Литейного, тогда еще говорили, что это самое высокое здание в Ленинграде – даже из подвалов Соловки видно. Встречал там бывших университетских товарищей – один уже ждал на погоны генеральские листья.
Они, говорил о внутренних врагах яростно, антисоветчину будут гнать, а мы терпеть?
Кино показал антисоветское, кадры без единого слова. Сперва купола и кресты на храмах – Москва благородная, голуби белые на площади —
Мы не голуби, мы не белые,
А мы ангелы – хранители… —
– через минуту – буйствующие в очередях приезжие, дают в конце летнего месяца детские беличьи шубки. Номера на запястьях, кто-то, лица не видно, упал, руку тянет, очередь бьется телами – буйствующая плоть. И снова наплывают купола благородного разлива – на православных храмах купол-чаша вбирает силу небесной тверди. И так раз за разом, чтоб каждому стало понятно.
Что было – что стало.
Антисоветчину будут гнать, а мы терпеть и молчать? – через год он стал генералом и любимцем Председателя. Рано умер, на встречах сокурсников мы его вспоминаем как хорошего парня.
Но вот гром отдалился, зеленые сливы почти не пригибают верхние ветки.
Юные ласточки трепещут крыльями, как бабочки, чуть замедлив взмахи, падают и снова, наверное, в мгновенном птичьем восторге взмывают. Никогда я не жил в таком удалении и отстранении, окликали меня по своим разным просьбам, если бы не это, никто, я думал, не вспомнит. В военном билете значилось – уволен в запас, я в ладу с изображением человека на картине моего друга Валерика Апиняна. Она называлась «Спящий» – человек на постели из переплетений цветовых линий, непробудно, казалось, спал. Но все видел и слышал – морщины на лбу, почти как рассечки времени – прозеванный гений русской литературы Сигизмунд Кржижановский изобрел словесный фантом-времярез. Спящий все видел из-под закрытых век, слышал одним повернутым к зрителю ухом и замечал каждого из картинной немоты сна.
А самое страшное нападение как раз тогда, когда его не ждешь.
Спящий с картины кивнул, не открывая глаз.
– Согласен? – Сенатор ждал, пока я замолчу.
– Не сума-тюрьма… кутерьма!
И уже через десять дней кортеж по Кутузовскому проспекту.
– Что Розанов любил? – Спросил Президент.
– Перебирал монеты! Единственное действо, где остались порядок и память. Еще игра на бильярде, катятся шары одинаково хоть ночью, хоть днем!
– Um Halb zehn Uhhr? «Бильярд в половине десятого»… Отец пол Европы построил, а сын пол Европы взорвал? Генрих Бёлль?
Президент был начитан лучше, чем я думал.
– А как жил? – Президент не забывал про свои вопросы.
– За занавесочкой, да с молитовкой! Мол, не радуйтесь, попики! Слова мои не против Христа! Надо молодым три первых ночки дать во флигельке рядом с храмом! Любовь чтоб при свечечках! Не могу, говорил, жить в стране, где нет больше царевен.
– Есть, наверное, смысл – при свечах?– Президент не терпел непонятного.
– Левиафан дикое укрощает силой! А Розанов любовью!
– Я помню, как ждал письма. – Вдруг сказал он.
– Я и сейчас жду.
– Чего именно?
– Не знаю…
Он жестко смотрел на меня.
А говорить, знает любой доцент, можно двумя способами: открывать файлы или открывать шлюзы.
Но шлюзы не открывались под жестким взглядом.