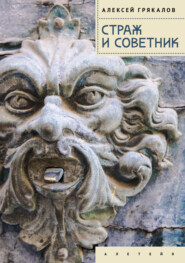скачать книгу бесплатно
И не перестать ненавидеть, до желания умереть. Болтался в чужих руках, взъярился первичный страх смерти грудновичка, когда отлучили от материнской груди, – сказать ничего не может. И то, что был вольным минуту назад, вытекло, будто прорван мешок из теплой кожи. Душка скукожилась, рвалась из плена. Неназываемая тоска смерти настигла вдруг в полдневном мороке-перекуре. И если бы знал слова, сказал бы, что тело совсем отделилось от души и существовало только собственным страхом, будто страх между раскоряченными ногами, почти переместился в мошонку. Оттуда верещал зайцем-подранком, которого настигал гончак.
Но руки уже дернули черные сатиновые трусы к животу.
Натянул на голый зад, руки дрожат. А те ушли, посмеиваясь, за угол к своей работе. Будто бы что-то нужное сделали, содрали трусы… голым задом на ежика, чтоб не думал, что не может так быть. Все может быть: сжали в лапах, лишили движения… дыхание табачное чувствовал на своих щеках, на глазах, дикой силой обратали. Знал чтоб – она всегда есть.
Теперь подкрасться, молоко в котомках, яйца крутые, тряпочка с солью, молоко в зеленых бутылках, в скорлупе яйца… внутрь не попадет.
Струю задрал кверху, сразу быстрый бег-скок на дерево… начнут пилить?
Обоссать барахло, пусть понюхают! Только хлеб нельзя.
Обиженный ненавидел в сорока шагах, не догнать. И никогда, никогда, никогда не терпеть. А гадкий липкий кошмар зависимости наколкой-драконом потом будет приходить в сон.
Где в засаду попавший ежик? – колючий свидетель-собрат.
* * * * *
И снова вслед в сон-шуиманджу.
Боевые слоны больше всего боялись визга свиней, которым подпалили щетинку.
В глаза мне смотреть, в глаза! Точкой бьет модный среди шпанистых питерских обитателей трофейный фонарик-даймон – апофатическая сверхсветлая тьма.
А передо мной тьма белой страницы.
И настоящий Советник, скоро узнаю, только тот, кто может предугадать характер будущей войны… боль от иглы-тату никогда не притупится. Попал непонятно кем завербованный сексот-дракон в сон-шуиманджу.
Кто мной-иглой вонзился поставить тавро на плече Президента? – двойная вербовка. И невидимо ни для кого за собой наблюдаю – даже своей тени у меня нет (только нечистая сила, лучшая в мире разведка, тень не отбросит). А со свидетелем всегда одинаково – в конце концов по-тихому уберут.
Подвел слепцов убогих паренек-проводник под окна отца-настоятеля – блеснут голыми задами пред светлы очи: «Гнать бесстыдных в три шеи!». Но лучше пусть гонят, чем голым задом на ежака… краткий из откровенного офицерского разговора эндшпиль – мандец.
Но я свидетель почти несуществующий – не так просто группе захвата меня уловить.
И взгляд из строки хоть не безопасен, но все-таки, надеюсь, не смертелен.
А в сон-шуиманджу Президента из собственного давнего страха мной уж заслан двойник-домовой – топтун из наружного наблюдения. Своя служба-босота – душа почти повсеместно в бессрочной службе, хтоник вымирающий-мстящий в одном лохматом явлении пришел и пропал, в сотне других возродится. Из рассказа дядьки-хохла домовой вышиванку на груди мохнатой расстегивает до наглого толстого несуществующего у нечистой силы пупа! Каждую ночь приходит и давит. До смерти не в его власти, но в большой-большой топтун силе.
Стал приходить по ночам домовой-топтун.
И решил хохол лохматого подстеречь. Каждую ночь… настырный, видно, москалик! Ему бы с нашими молодицами-ведьмами – кто не скачет, тот москаль! А он к казаку поперся! Я серники в левую, хохол выставил руку, в правую самодельный из трофейной австрийской косы ножик. Покупным лезвием такого черта не взять! Себя самого как бы по мошонке не чиркнуть. Петлю из просмоленной дратвы! А за другой конец пустое ведро, чтоб не вошел незаметно. Так он сразу коленями скок мне на руки! Ноги своими мохнатыми придавил. Не двинусь! Знаю, дохнет теплым к добру, а холодным – бо-о-льшо-о-й мне майдан! А тут под Великдень как раз кума в гости! Я ее на кровать, сам на печку. Ложись-ложись, куманюшка дорогая! И уж под самое утро он шлёп-шлёп мимо меня, дух чертячий! Да на нее! А она под ним: охо-хо! Ох-хо-хо! А я с печи: «Что, ошибся?». Полезет, думаю, ко мне – в грудину дам ёко-гери! У нас в Горловке был клуб сан-до-рю! Дзюдо, каратэ и айкидо! Я две зимы посещал! Не полез ко мне, побоялся, к двери пошлепал! А я вслед из левого ствола холостым! Бездымным порохом! А во втором стволе бекасин, да жопу лохматую пожалел.
Скакнул он, дверью со зла гримнул!
Ты ушаки становил, чтоб дверь бить? Кума, правда, с перепугу по-бабьи! Ногами сучит, не угомонится, как после этого самого!
Освежилась мокрая!
Утром гость подхихикнул как-то бесовски, будто только из-под топтуна-домового. Даже хотелось глянуть – не торчит из прорези на камуфло-штанах сзади вертлявый хвостик?
Хвоста не было, но топтун из чужого сна вдруг внедрился в существование. Представления слов без представленья вещей – тяжесть от топтуна была простым словом, но подстроился страх ночи. И еще стакнулся со страхом-позором, когда трусы содрали – голым задом на ежака. (Можно, теперь думаю, было бы назвать легким психозом.)
Виделось только в самом видении, за которым ничего нет.
Но от этого еще неуютней. Ведь что-то странное облюбовало сны, зародился смутный исток – по асфальту, перешагивая из одного пробившегося сквозь гудрон кусточка зеленой травки в другой, пошло странное существо тайной жизни – то ли суеверия, то ли страха. И не сказать гоголевским словом: «Кто ты? Коли дух нечистый, сгинь с глаз. Коли человек, не во время шутки затеял, убью с одного прицела!». Не давало покоя, держало, чтоб не забывал. Из побрехеньки-рассказа каждую ночь домовой шлёп-шлёп от двери! Только смежил глаза, топтун душит, удержанием по-натовски, по-американски, по-бандеровски тупо давит.
А морды ни разу не показал.
Будто бы уговор оставаться под тушей, вербовал на молчок, не давил до смерти. И нужно сталкивать лохматую тушу перед каждым разговором и каждой встречей. На послов иностранных позавчера смотрел, как на клонов, – вручали с почтением грамотки, почти под каждой парадной обмундировкой тот, кто хочет налечь и давить! А теперь топтун даже стакнулся с драконом, двойная вербовка, наколка на плече неведомо для кого расписка. Есть ангелки светлые, отчего не быть черным? Даже в предутрии себя нигде явно не обнаружив, двое несуществующих смотрели на Президента – объединились дракон и домовой-топтун.
По коврам президентских покоев пошлепали ночами одной парой – хтоник-топтун и дракон. Насельники сна, киборги чертовы. Даже не вздрогнул никто из охраны, реальная история с нереальными существами. Ведь только настоящее существует? – ошибся епископ-резидент Августин, когда написал, что прошлого уже нет, а будущего еще нет. Только настоящее есть, епископ знал, что есть вечность, где все сходится.
Сейчас сбились времена, идет страшная война языков.
Безвременно из сна в сон домовой-топтун бродит.
И как раз настоящего будто бы совсем нет. И освободиться от кошмара можно только через виденье невидимого. Тут сам взгляд становился тем, на что смотрят – из-под иконных горок, над которыми всевидящее Око, течет невидимо сила.
Где миг чудесного счастливого мгновения – кайрос?
Даже неведомой любимой женщины будто бы в этом мгновении нет.
С чем дело иметь?
Даос из сна-шуиманджу пощечину даст да в глаза плюнет. Или по щеке влепит, чтоб навсегда пятипалая краснота! Домовой давит, тяжесть у Августина стремит тело к своему месту. И надо выкручиваться, не быть под чужой тушей. Но из всех регионов либералы с куском убоины: «Мясо в пост не ешь, Государь? А человечинку в пост?».
И гвалт европейцев вслед.
Легко начать войну, трудно из нее выйти.
Но какой-то особый язык Президенту словно бы навсегда предписал бороться, жизнь бежала от недавнего настоящего, уже не нужны пароли, явки и адреса. То, что миг назад большим, чем было, через мгновенье стремительно становилось меньше, чем есть.
А меньшинства, как известно, стремятся стать большинствами.
Но к чему наколка-дракон?
Небывшее и бывшее сейчас в удержаньи друг друга.
Дракон летит:
наблюдая за полетом
могучего,
Мое сердце устремляется далеко
от этой
пыльной
земли.
И в предутрии сна двойная с оборотом подсечка хвост дракона любого сметет с ног. Даже домовой не посмел дохнуть ледяным к худу. Но не успел и теплым к добру. В развороте драконьего тела неудержимая ярость.
(Кого ты любишь?
Кто любит тебя, Президент?).
Они все просто терпят, боятся и терпят. И нет никакого народа, он был только в войну, остались граждане, которым не нравится ни одна власть.
Никто не мог сломать взгляд Президента
Президент признает только собственный неустрашимый ничем взгляд.
Когда ты, наконец, достиг самой высокой
вершины,
Все другие горы перед твоим взором стали
неожиданно маленькими.
– В Китае высокая духовность? – Спросил я у рядом стоящего китайского коллеги.
– В Китае никакой духовности нет! – Улыбнулся и воздел руку, показывая в голову делегации.
– А что есть?
– Только сила… почтение. И страх!
После перелета вслед земному вращению кружится голова.
И в самолете, когда открыл шторку на иллюминаторе, показалось, что мир еще не успел ни разу протанцевать вокруг оси, ревели драконы-двигатели, яро рождался какой-то будто бы напоказ особенно красный революционный небесный рассвет, в Китае видел только два изображения Великого Кормчего – на его собственном Мавзолее и на стене клуба в музее шелка.
В выцветающих красках вздымал вперед могучую руку облупившийся призыв Кормчего, за стеной в специальных кормушках черви пожирали шелковичные листья. И когда все любопытствующие из свиты прошли, я тоже выставил на сцене повторение-жест, скопировал фигуру со вздетой рукой, снимок никому не показывал, но увидел его выложенным на чужом сайте. А китаянка-переводчица Наташа сдержанно улыбалась на повторенный жест: она не успешная, муж ее оставил.
Шелковичные черви копошились под стеклами.
– С китайской женщиной был? Хорошо?
– Нет… наверное, хорошо!
Оба могучих лидера стояли в тридцати шагах от нас.
Я вручил ему сигареты с образом Петра-императора.
Китаец вслух прочел черные буквы: КУРЕНИЕ УБИВАЕТ.
И стал расспрашивать, а я рад похвалиться никому почти неизвестным воспоминаньем о поэте-нобелианте. Шли на день рожденья к двум девицам на Васильевский остров будущий лауреат и его друг, что издал первую книжечку поэта в родном Ленинграде. Три рубля у друзей было: можно букет гладиолусов, можно бутылку водки.
И на цветы после мужского выбора не осталось. Тогда будущий нобелиант написал фломастером на этикетке.
– Какие мои самые известные строчки в России? – Через много лет спросил у давнего друга.
– Ни креста, ни погоста не хочу выбирать – на Васильевский остров я приду умирать.
– Ты помнишь?
Как раз то, что написал красным фломастером на этикетке «Столичной».
Я рассказывал китайскому коммунисту, он кивал на каждый танк, стволы торчали за пределы перенаселенной поднебесной империи. Кивал без опасений, мы стояли в самом конце делегаций – два серых мышонка-советника.
И когда пошли строем луноликие китаянки в белом, собеседник вежливо по-китайски:
– Стихи… нет. Троцкий! Коммунист! Не Бродский, Троцкий!
– Лев Троцкий?
– Я издал пять томов!
– На деньги партии?
– Усул…лийск! У меня бизинес!
– Троцкий! Троцкий! – И я китайским болванчиком закивал, головушка беспартийная закачалась в прорези железной шейки.
Знаю, что больше с делегацией в Китае мне не бывать.
Я купил платочек из натурального шелка, он спокойно и ласково лег мне в ладони. Вручу Анне, играет на органе музыку барокко. И самое близкое ее существо орган-любовник. Но все-таки порадовала меня: «Хорошо, что мы сейчас встретились… Если была бы твоей ровесницей, была бы сейчас толстой теткой».
Барокко чудесно держит мир в неудержимых завитках-свиданьях.
А Президент, как и раньше, больше всего на свете не терпит удержания.
Ни в объятиях, ни во власти.
2. Все начинается с поклонов, или Смертный кагор
Кому – ангел-хранитель, кому – даймон-сексот, а кому – казенные с обыском. А у самых истоков – в огонь первенца, совсем недавнее дико-крестьянское отчаянье хватало дрожащего поджигателя.
Жертва духам-всполохам.
И прекрасные природные женщины с похожими на черную смородину после дождя глазами, как у Катюши Масловой, будто бы совсем в Петербурге перестали существовать. Когда самая последняя совершенно голой прошла по Конногвардейскому бульвару, словно простой артефакт отбился от презентации тел в Манеже: на животе наколочка-рожица, то улыбалась, то скрывалась от встречных. Совсем увяла в университете неоархаика, которой в конце прошлого века вызывали духов полнокровности жизни. Заброшено недавно модное виртуальное кладбище. Затихало в консерватории необарокко – чем держаться любовным соблазнам? А ведь почти у каждой аспирантки роман должен состояться со взрослым музыкантом-мужчиной. Время промахивало сквозь настоящее, в нем уже почти не осталось прежних хранителей. И еще не было новых свидетелей, словно бы не о чем свидетельствовать. Даже сказочные потенции скукожились, одряхлевший царевич в активном поиске не внял словам лягушечки со стрелой.
Юная супруга уже без надобности, а вот блогерушка-лягушечка!
Но если чуда не ждать, оно не придет.
И курс, который я читал в Университете, – на жизнь зарабатывал сеяньем РДВ (разумное, доброе, вечное) до метафизической бесплотности истончился. До двадцати годков ученик, до сорока лет – воин, до шестидесяти – хозяин дома. А после шестидесяти – отшельник. Пропитанье тем, что подадут, медитируй перед рябинкой в окне: сперва листочки, потом белые соцветия, потом желтеют и розовеют гроздья, краснеют. Пропустил одно утро, уже побывали рябинники-дрозды. Потом веточка рябины сухая, если смотреть из окна, станет похожей на замерзшую гадюку.
А вслед бессонницы в полночах.
И ранняя жестокая осень мужская, под неподвижным камнем смертно бледнеет даже крапива. А ведь совсем недавно казались далекими слова берлинского гения Гегеля, что результат – это только труп, оставивший позади себя тенденцию. По-русски тенденцию переврал в подпитии друг-филолог – она только спекулятивный труп, оставивший позади себя похмельный синдром. Но что-то самое главное будто бы предугадал – SPIRITUS VINI коварно подталкивал к рождению угрюмо-правдивые утренние словеса. И можно бы в подобье удаленному от дел Макиавелли, в пустой траттории писавшему о государе, смотреть в старые и новые книги, где в помощь всем отшельствующим прорастала в разных обличьях странная фигура свидетеля. И лишь на острие иглы, где будущее стремительно становилось прошлым, безумное становление как-то еще удерживалось в свидетельском взгляде, хотя он сам был почти никому не нужен: – если слишком много знает, подведут под природную наглую или постыдную словесную смерть. В горной академии правил близкий к вершинам власти ректор-миллионер, в консерватории китайские студенты на академических концертах исполняли лихо про свой священный Байкал. В военные заведения стремились по шестеро добровольных рекрутов, бойкие амазонки представляли до двадцати талий на одно девичье койкоместо, что говорило о несомненном нарастании в Империи жизненных сил.
Но неожиданно в нарушение отшельнического существованья редактор издательства предложил написать книгу. Почти без опасений я согласился, ведь боящийся в любови несовершен, – сто раз я повторял слова Апостола для других.
И заказанная книга о Василии Васильевиче Розанове выросла в местах между Пушкиным и Набоковым – деревней Выра, где трактир «У Самсона Вырина» уже стал рестораном с самоваром и русской печкой, и поселеньем Рождествено – на высоком берегу у слиянья Грязны и Оредежа белый особняк, подаренный юному Набокову перед первой большой войной. По своим годам Набоков мог бы участвовать в гражданской войне… брел бы донскими степями, обмерзлый башлык на голове.