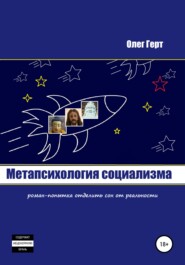скачать книгу бесплатно
– Вопрос риторический, – сказал Витя, – Для меня. И для тебя. А у нас там… и в Америке, и в России… девять десятых населения, будучи корнями, клянчат милости у ствола. И всё ждут, что кривой ствол вдруг сам собой выпрямится, и им, корням, от этого сразу полегчает. Даже на выборы регулярно ходят: голосуют за выпрямление ствола. В общем, ситуация специфическая, если честно: прямо для психиатра… Собственно, даже уже никто всерьёз и не думает, что и ствол, и корень – это одно дерево. Вспоминают об этом, только когда корни стволу пожрать в очередной раз отправляют…
Витя говорил и мысленно отметил это своё «У нас там». В каковое «у нас там» он включил автоматически и Россию, и Америку: ну, точно депутат от Земли, беседующий с марсианином.
Блин, подумал Витя, нужно же выяснить всё-таки, куда я попал и где нахожусь… А вот как его спросить, если он буддист, или тем более Будда? Спросишь «Я где?», получишь опять «Нигде», потому что в его представлении это единственно возможный ответ…
Интересно, а вот мы когда на этот вопрос отвечаем «В п…зде!», мы что имеем в виду?
То же, что и Сид? Бессмысленность географической локализации, поскольку человек, независимо от территориального местонахождения, всегда находится наедине с самим собой, и это главное, что определяет его поведение?
Или мы тем самым как бы обозначаем, что наше рождение, наше появление из материнской утробы – это просто иллюзия, фантом, а на самом деле мы всю жизнь продолжаем пребывать в ней, видя короткий сон о своём жизненном путешествии?..
«Где я? – В п…зде!» Вот способен же русский язык кратко и ёмко передать одним словом такую россыпь философских и духовных смыслов!.. Прав был Иван Тургенев: велик и могуч… И нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу…
– Слушай, – сказал Витя, – Давай по твоим правилам сыграем… Короче, я не очень понимаю, где я, и что я здесь делаю. Тем более, как я здесь оказался. Но главное вот что: у меня есть чёткое понимание того, что я должен куда-то идти. А вот куда и зачем – не знаю. То есть идти мне надо, а смысл того, куда и зачем, я, видимо, как бы пойму уже в процессе…
Самое интересное, Витя почти не выдумывал: так оно и было.
– И вот я решил, – продолжал он, – Раз я в такой непонятной ситуации, а ты – единственный, кто здесь есть, кроме меня, то я у тебя и должен спросить: куда мне идти?
Нет, точно больница, подумал Витя, замолчав. Клиника.
Однако Сид смотрел на него со своим обычным милостивым, царственным и снисходительным выражением, словно бы не находя в его словах совершенно ничего странного. Затем он вдруг улыбнулся.
– Ты чего? – спросил Витя.
– Так, – ответил новый знакомый, – Просто подумал: то, что ты говоришь про себя, очень похоже на то, что ты говорил про свой народ…
– В смысле?
– Твой народ долго и терпеливо шёл в определённую сторону. По известному пути. К конкретной цели. Так ведь?
– Ну да, – сказал Витя, – По пути социализма. Имея в качестве цели коммунизм.
– Да. А потом ему сказали, что идти нужно в обратную сторону. Но при этом, заметь, не объяснили, ни как этот новый путь называется, ни куда он по этому новому пути придёт. И главное – зачем он туда придёт? Кому нужно, чтобы он туда пришёл? Ему нужно, этому народу?.. Или кому-то другому?
– Похоже, – сказал Витя.
– Вот. Но по мере того, как народ по этому новому пути двигался, ему всё меньше хотелось туда идти… Становилось понятно, что, во-первых, на этом пути стремительно сокращается поголовье, что является первым условием крысиной игры. Во-вторых, что большинство выживающих стремительно опускаются и деградируют, что является вторым условием крысиной игры. И в-третьих, что побеждающие крысы…
Он замолчал.
– Что? – спросил Витя.
– Это тоже очень неприятно. Что побеждающие в этой гонке крысы начинают на основании своей победы объявлять себя людьми… Причём только себя. И это является третьим условием крысиной игры. Понимаешь? Только те, кто выходит в четвертьфинал, в полуфинал, и так далее, вот только они – люди. И даже – сверхчеловеки. А все прочие…
– Ватники, – сказа Витя, – Совки. Быдло. Нелюди… Знакомо, да… То есть, погоди… Это что же, получается, это вроде искусственного отбора? Ты хочешь сказать, что при движении в эту сторону происходит разделение на «людей и нелюдей»? И чем меньше становится выигравших, и чем больше проигравших, тем меньше, типа, «настоящих людей», и тем больше «нелюдей»?..
– В крысиной логике – да, – ответил Сид, – Причём все те, кто вообще не желает участвовать в крысиной гонке, тоже по умолчанию являются лузерами и нелюдями.
– А в человеческой логике?
– В человеческой – наоборот. Как в зеркале. Или как в Зазеркалье… В человеческой логике, побеждающий в крысиной гонке человеком считаться не может. И даже просто в неё ввязавшийся… Человеком может считаться только вообще не желающий в ней участвовать.
– А почему ты сказал, что я похож на свой народ?
– Ну как же… Твоему народу в одну сторону идти запретили. А в противоположную он уже и сам не хочет: всё понял… Вот он и топчется на полпути со словами «И куда мне теперь идти?»
– Понятно, – сказал Витя, – А у этого всего название есть?.. Ну, вот этот искусственный отбор, эти крысиные бега – это путь к чему? Путь куда? Изначальное направление понятно: социализм, к коммунизму… А это? Это тоже какой-то «…изм»? Путь к какому-то «…изму?»
Договаривая эту фразу, Витя краем глаза увидел то, от чего его мгновенно прошиб холодный пот. На стволе дерева, под которым они сидели, вдруг обозначились три отчётливых кольца, словно бы некая гигантская змея обвивала ствол своим мощным телом: Вите даже показалось, что он увидел качнувшуюся в воздухе плоскую голову с направленными на него холодными жёлтыми глазами. Он стремительно обернулся – и не увидел ничего, кроме узловатых изгибов коры и слегка покачивающейся низко опущенной ветки.
Сид, похоже, не заметил Витиного испуга. После долгого молчания (долгого, как Вите показалось, или он просто слишком нетерпеливо ждал ответа), новый знакомый не спеша поднялся на ноги. Он оказался примерно с меня, но изящнее и тоньше, по-мальчишески стройный, а его манера смотреть сверху вниз словно бы добавляла ему роста. Он слегка потянулся, придав своему лицу сонливо-благостное выражение, потом быстрым движением закрутил в узел на макушке свои длинные иссиня-чёрные волосы.
– Я пойду с тобой, – произнёс он. По-видимому, на моём лице отобразилось изумление, потому что Сид снова улыбнулся своей саркастической гримаской и добавил:
– Я в таком же положении, что и ты.
– В каком смысле?
– Ты не знаешь, откуда ты. Куда идёшь. Зачем. И ты готов довериться первому встречному, ибо у тебя нет другого выхода. У тебя сейчас нет прошлого. И нет будущего. Есть только этот момент. Ты в моменте. И я в твоём моменте. В настоящем. Вот так и иди…
– А ты?..
– А я всегда только так и иду, – сказал Сид, и я понял, что помолчать – самое время.
Дохнул тёплый ветер, забрался мне под воротник, пробежал по щеке, перепрыгнул на дорогу и слегка приподнял сухую пыль: ту самую, что мне предстоит теперь топтать долгими верстами…
Глава 5. Место, где тебя нет
Знаешь, чем здесь хорошо? Смотри: вот мы идём и оставляем следы на песке, отчетливые, глубокие. А завтра ты встанешь, посмотришь на берег и ничего не найдешь, никаких следов, ни малейших отметин. За ночь все сотрет море и слижет прибой. Словно никто и не проходил. Словно нас и не было. Если есть на свете место, где тебя нет, то это место здесь.
Уже не земля, но еще и не море. Не мнимая жизнь, но и не настоящая.
Время. Проходящее время.
(Алессандро Баррико «Море-океан»)
Давайте хоть познакомимся, что ли… Вы кто? А, читатель… Ну, очень приятно: а я писатель.
Прикольно устроена литература, да? Вот читаешь-читаешь какой-то текст, переводит твой мозг некие чёрные символы на белом фоне в образы, в картинки… И вырастает из этих закорючек, которых всего-то три десятка, букв то есть, в разном порядке подобранных и составленных в слова, целый мир: с небом, солнцем, деревьями, людьми, разговаривающими на сложные и не очень темы… И ты прямо-таки видишь этих людей, слышишь их голоса, и даже готов на своей щеке почувствовать тот же самый тёплый ветер, что забирается под их воротники…
И всё это происходит, разумеется, только внутри тебя, в твоём воображении.
Нет ничего этого: ни неба, ни солнца, ни деревьев, ни людей, ни ветра. Есть, говорю, только набор условных знаков, написанных или напечатанных в определённой последовательности, которые, будучи восприняты твоим зрением, а затем расшифрованы мозгом, превращаются в огромный, солнечный или не очень, мир внутри твоей головы. Небольшая порция буквенного кода, всего-то в триста-пятьсот страниц, способна сделать тебя мудрым или глупым, счастливым или несчастным, радостным или грустным.
И вот ты читаешь, вот уже погрузился полностью в этот воображённый самим тобою мир, который твой мозг самостоятельно прорастил из загруженных в него буквенных комбинаций: видишь небо, слышишь людей, чувствуешь ветер щекою… А потом вдруг случается, как говорят программисты, баг: вся эта симуляция разваливается на чёрные квадратики, пиксели, исчезает звук, пропадает картинка, весь этот мир разрушается вдруг и мгновенно, только потому, что ты вдруг услышал (как тебе кажется, над самым ухом) протяжный призыв «Витька, хватит книжки читать: пошёл бы погулял!»
Или того хуже: сквозь этот мир, столь убедительно звучащий и выглядящий, вдруг проламывается нахальная харя писателя, который, оказывается, всё это время просто нашёптывал тебе в ухо строчки буквенного кода, и с ухмылкой произносит «Давайте хоть познакомимся, что ли… Вы кто? А, читатель… Ну, очень приятно: а я писатель».
Такие вот обломы, в виде внезапного разрушения реальности, создаваемой нашим собственным воображением, обычно испытывают только продвинутые мистики. Впрочем, для них это не облом, они к этому разрушению идут целенаправленно, годами, при помощи трудных, иногда мучительных повседневных практик.
Обычные же люди испытывают это ощущение, как правило, либо при просмотре кинофильма, либо при чтении книги. То есть при попытке создать в своём воображении ещё одну реальность, чуть более локальную, чем то, что они принимают за собственную жизнь. Реальность, как бы вложенную в основную, как вкладываются одна в другую матрёшки.
Если вы вдруг, сидя в кинотеатре и будучи по уши погружены в события на экране, внезапно окажетесь способны осознать (правда, именно это сделать сложнее всего), что никакой перестрелки или бурного чувственного романа перед вами в действительности не разворачивается, а перед вашими глазами просто прокручивается последовательность статичных картинок со скоростью двадцать четыре фотки в секунду, вы точно так же провалитесь в некую вдруг образовавшуюся под вашими ногами трещину в реальности, которую ваш мозг только что с таким усердием имитировал. Правда, вас тут же подхватит другая имитация, согласно которой вы удобно расположились в кресле кинотеатра, а рядом похрюкивает подруга или друг с ведёрком попкорна. Так что ваша паника, вызванная этим психологическим провалом, окажется очень недолгой…
В этом смысле кино с момента своего появления стало альтернативой книгам, ибо на протяжении большей части истории люди склонны были заколдовывать друг друга и самих себя, говорю, посредством шифрования и обратного расшифровывания реальности при помощи букв и слов.
Компьютерные игры, которые по сути своей представляют собою просто управляемое вами самими кино, стали очередным шагом на этом пути.
Если ваш ноутбук слабоват, и не справляется с той операционной нагрузкой, которую требует от него запущенная вами игра, то вы точно так же будете проваливаться в трещины в воображаемой реальности, когда небо, солнце, деревья и люди начнут вдруг распадаться на чёрные квадратики. А если вы, вдруг и резко, переместите изображение на экране, то обнаружите, что тот объект, который до этого был за пределами экрана (и про который вы точно знаете, что он там есть!), на самом деле отсутствует, и появляется перед вашим удивлённым взором лишь с секундным опозданием: как младшая жена Гюльчатай, в очередной раз опоздавшая на инструктаж красноармейца Сухова.
Те объекты, которые в данный момент находятся за пределами экрана, программа просто перестаёт визуализировать, в целях снижения нагрузки на процессор: зачем вам домики, на которые вы пока не смотрите, и люди, в которых вы пока не стреляете?
Примерно это имели в виду древние, когда задавали себе разумный вопрос «Существует ли Луна, когда я на неё не смотрю? А когда на неё вообще никто не смотрит?»
Кстати, а на месте ли та стена, что позади вас?
Обернулись, проверили? На месте? Тогда двигаемся дальше…
Создать перед вашими глазами, а тем самым и внутри вашей головы, воображаемым вами самими мир, таким образом, совсем несложно. Для этого, как мы выяснили, достаточно предъявить вам несколько сотен страниц буквенного кода (в некоторых случаях хватает даже нескольких строк такого кода) либо промотать перед вами последовательность статичных картинок, из которых ваш мозг сам создаст движение.
Идея о том, что мы все живём в масштабной симуляции, невесть кем и для чего производимой, идея, что все мы суть не что иное, как персонажи некоей компьютерной игры, запущенной неведомым богом на принадлежащем ему сверхмощном компьютере, в нашем современном мире приобрела серьёзную популярность.
Правда, популярность эта особого рода, как и практически любая другая популярность в этом вашем современном мире.
В этом вашем, нашем, мать его так, современном мире популярность обретает – мгновенно и надолго – в основном то, что способно вызвать на лице потребителя глуповатую ухмылку и пробудить в нём мысль «А чё? Прикольно…»
Вы видели когда-нибудь выражение лица младенца, который вдруг рассмотрел повешенные перед его лицом погремушки, и осознал, что если теребить их ручкой, то можно вызывать приятный убаюкивающий звук?
Примерно такое же выражение появляется на лице аборигена Новой Гвинеи, когда появившийся перед ним белый человек протягивает ему яркие бусы или браслеты: их сверкание под солнечными лучами, равно как их мелодичное похрустывание, возникающее, если их потрясти перед носом аборигена, вводят его в подобие благоговейного транса.
Примерно это же выражение не сходит и с лица русского аборигена, с того самого момента, когда заезжие колонизаторы впервые показали ему жевательную резинку в яркой упаковке, синие джинсы и зелёную бумагу с портретами собственных президентов, сопроводив всё это аккордами рок-н-ролла.
Ни младенец, ни папуас, ни русский абориген, разумеется, не осознают ни подлинного назначения предъявленных предметов, ни целей, с которыми этот предмет им предъявлен: для них важно именно это состояние транса, полусонного комфорта, которое способен вызвать предмет.
Если же наш младенец или абориген, вопреки всему, вдруг поймут подлинный смысл происходящего – а смысл, понятно, состоит в том, что взрослые люди (или белые люди, что в известном контексте одно и то же) просто решили отвлечь его внимание на то время, пока они будут вокруг него заниматься своими взрослыми делами, – то он, скорее всего, расстроился бы, а вовсе не обрадовался.
Смысл и назначение этих взрослых дел он всё равно осознать будет не способен, и уж тем более не способен составить взрослым белым людям конкуренцию в занятии этими делами: так что куда лучше продолжать пялиться на повешенные перед твоим носом стеклянные бусы, периодически повторяя уже упомянутую мантру «А чё? Прикольно…»
В этом смысле идея о том, что всё тебя окружающее – не более чем компьютерная симуляция, а сам ты – просто персонаж внутри вселенской компьютерной игры, на поверку оказывается тем же самым: подвешенной перед носом младенца погремушкой, способной его отвлечь, позабавить или усыпить, но совершенно не способной предоставить юному папуасу подлинно ценных выводов.
Мир – не симуляция. Мир реален. Но в реальном мире нет богатых и бедных. Нет «власти» и «народа». Нет денег, кредитов и процентов по ним. Нет жилья в ипотеку. Нет победы в карьерной и материальной гонке. Нет личного успеха в отрыве от общественного. Нет золотых парашютов и оффшорных счетов. Нет социальных дистанций – ни в каком смысле этого слова вообще. Нет никаких масок, кроме карнавальных, и никаких кодов, кроме компьютерных.
Всё перечисленное – просто бусы и погремушки разного размера, призванные вводить младенца в транс.
Реальный взрослый мир состоит из мужчин и женщин, пытающихся жить в любви, мире и согласии. И даже способных на это: ровно до того момента, пока их внимание в очередной раз не отвлекает шевеление и мелодичный звон погремушек, превращающих их в неразумных детей…
Глава 6. Проводники
Умение легко перейти от шутки к серьезному и от серьезного к шутке требует большего таланта, чем обыкновенно думают.
Нередко шутка служит проводником такой истины, которая не достигла бы цели без ее помощи.
(Фрэнсис Бэкон)
Они сидели в какой-то придорожной харчевне, низенькой и убогой, с покосившейся черепичной крышей.
Или не в харчевне.
За время, проведённое здесь и с ним, у Вити накопилось немало вопросов.
Первый из них, «Куда я попал и где именно нахожусь?», Витя задал Сиду сразу, ещё при встрече: и, если помните, получил дурацкий ответ «здесь».
Заметьте: куда бы вы ни попали и где бы вы ни находились, если встреченный вами прохожий на ваш вопрос «Где я?» ответит «Здесь», вы попадёте в странную ситуацию.
Во-первых, прохожий совершенно прав. Во-вторых, разумеется, вам такой ответ ничего не даёт. В-третьих, что самое интересное: все ваши попытки произвести более точную локализацию своего местонахождения – выяснить географию, названия населённых пунктов и так далее – на поверку оказываются лишь трусливым стремлением выяснить, насколько далеко вы, так сказать, выпали из своего привычного гнезда, и сколько усилий вам придётся потратить, чтобы вернуться к месту своего привычного обитания.
Ответ «Я здесь» вас не устраивает именно потому, что просто «здесь» вы находиться не привыкли: вы привыкли связывать себя с конкретным местом, и делаете это ещё прочнее, чем хозяин собаки привязывает её шнуром к забору.
Поэтому когда на вопрос «Где я?» вы получаете ответ «Вы сейчас в деревеньке Свиблово Мценского уезда Тутанхамонской области, в 30 км от районного центра, ближайшая автобусная остановка за углом» приводит вас в ощущение блаженства, ясности и формирует готовность к действию: теперь вы точно понимаете, как именно вернётесь в привычный вам Мухозасранск, и сколько времени потратите на это. А вот ответ «Вы здесь» – дезориентирует и пугает: он предполагает, что бежать, ехать, стремиться вам более никуда не надо.
Вы уже здесь.
«Я в харчевне», сказал себе Витя, вытащил пальцами из своей миски какой-то тушёный овощ и отправил в рот. А вчера я увидел Сида возле дороги под деревом, мы познакомились, до самого вечера шли пешком, переночевали на постоялом дворе, а сегодня нас вёз какой-то крестьянин на воловьей повозке, потом мы опять шли пешком, и вот мы здесь.
Если я могу вспомнить, как я сюда попал, то я не сплю. Это ведь так работает?
А как тогда я попал под то дерево?
То же самое касается и времени. Человеку, находящемуся в привычном метании между собственным прошлым и будущим, привыкшему постоянно задавать себе исключительно вопросы «Что же это было?» и «Что теперь будет?», крайне сложно поместить себя в то узкое пространство «Сейчас», в котором только и возможна жизнь. Никакой верблюд, отягощённый двумя горбами под названием «прошлое» и «будущее», принципиально не способен пройти через игольное ушко «настоящего»: хотя именно эта нехитрая способность и есть то немногое, к чему стоит стремиться в жизни.
Всё это Сид объяснял ему за то время, которые они провели вместе, и примерно в этих самых выражениях. Надо сказать, Сид умел завораживать слушателя: не только убийственной простотой и кристальностью собственной логики, но и своими царственными манерами, осанкой, жестами, неторопливостью и мелодичностью речи. Кроме того, с его лица практически ни на секунду не сходило ранее подмеченное Витей чуть раздражённое, но в то же время снисходительное выражение всё понявшего про жизнь гуру, вокруг которого наступают на привычные им грабли неразумные младенцы, и по поводу синяков и шишек которых он испытывает глубокую скорбь. Это тоже придавало ему своеобразный шарм: он продолжал напоминать Вите осла Иа из советского мультика, словно бы постоянно готового спросить «Ну, что у вас опять случилось?» или «Ну, какой вашей очередной глупости мне придётся сопереживать?»
Минуту назад он объяснял Вите, что и эта придорожная хибара, куда они заглянули на запах тушёного мяса, и этот грубо сколоченный стол, на который Витя выложил локти, – всё это просто попытка привязать собственные ощущения к каким-то привычным образам и конструкциям.
Мол, если я скажу себе «Я сижу в харчевне за столом», то есть навешу конкретный узнаваемый ярлык на место своего пребывания, то это даст мне то самое обманчивое чувство спокойствия, за которым я так гоняюсь. Но которое, в действительности, просто погружает меня в привычный для меня сон повседневности.
Если же я скажу себе просто «Я здесь»… в общем, ну вы поняли. Это для меня шанс проснуться и бла-бла-бла.
Так что, возможно, думал я, мы и не в харчевне. И он не ест руками из глиняной плошки рис, а передо мною не стоит на столе тарелка с овощами и козьим сыром. Тушёное мясо, говорите? Видели бы вы, какими глазами он глянул на меня, когда я спросил хозяина о мясе: как Робинзон Крузо, которому Пятница по привычке предложил полакомиться трупами убитых врагов. Попав в незнакомое место, следует внимательно относиться к настроению своего единственного попутчика: поэтому мясо я переиграл на сыр и овощи. И вот уже около получаса мы сидели у приоткрытого окна, в которое порывами влетал тёплый степной ветер, гладя меня по щекам и шевеля чёрные распущенные волосы Сида.
Кстати, рис Сид тоже ел довольно своеобразно: доставая из миски пальцами едва ли не по одному зёрнышку, укладывая в рот и даже не прожёвывая, а словно бы растирая языком по нёбу. Насколько я понял из его предыдущих рассказов, в его жизни был период, когда он питался одним зёрнышком риса в день. Если в это поверить, то сейчас он на моих глазах уничтожает примерно свой годовой рацион. Впрочем, поверить легко, если он всё же Будда. И бывший царевич Шакьямуни. Если же он Сид, как я называю его с момента нашего знакомства под придорожным деревом, то хотя это не объясняет ни его величавых манер, ни странноватых аскетических привычек, ни удивительной логики, но зато даёт мне возможность сохранять веру в здравость собственного рассудка и снижает градус нашего общения. Позволить себе запросто побродить по просёлочным дорогам и поесть за одним столом с Буддой я, по-видимому, психологически пока не готов.
– Сид, – заговорил я, – Допустим, я всё понял и про «здесь» и про «сейчас»…
Он глянул на меня взглядом профессора математики, которому семилетний внук после урока арифметики сообщает, что в науке для него не осталось никаких тайн, и я поправился:
– Я же говорю «допустим». Ну, не всё, но кое-что понял. Короче: я верблюд, который никак не может пролезть в игольное ушко под названием «Где я?» Да, с твоей точки зрения это глупо, но мне нужно конкретное объяснение. То, что здесь странно, я уже оценил. И сообразил. Это место – в смысле, все места, где мы с тобой уже побывали, – очень своеобразное. Это очень отличается от того, к чему я привык. И потом, ты мне постоянно твердишь «там, у вас» и «здесь, у нас». Где это «там у нас», и что это «здесь у вас»? Проще всего, конечно, предположить, что я во сне: это всё объясняет. Я сплю, и всё это мне снится: вместе с тобой.