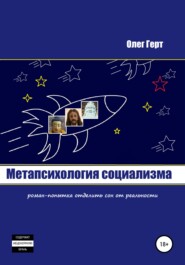скачать книгу бесплатно
Хозяин играл в какую-то сложную игру, нечто вроде экономической стратегии, с обалденной графикой, просто потрясающе реалистичной. На общем плане видны были заводы и общественные здания, сеть железных дорог, жилые микрорайоны, снующие там и сям жители, личный и общественный транспорт. Всё это выглядело, повторяю, не анимацией, а столь же натуральным – если не более натуральным – миром, чем наблюдаемый мною самой вокруг себя мир.
С той лишь разницей, что представленный на экране мир относился не к современности, а к прошлому, причём к нашему, российскому, хотя и не столь далёкому. Знаете, это как если бы вы смотрели документальный фильм о периоде сталинского социализма, но снятый с высоты птичьего полёта, и суперсовременной видеотехникой, которой не могло быть в тридцатые-сороковые годы прошлого века. Ошибиться было нельзя хотя бы уже потому, что на крышах жилых домов и заводских корпусов там и сям красовались огромные надписи вроде «Слава труду!», «Народ и партия едины» и «Наша цель – коммунизм!»: да и в целом представление о том, как выглядела родная страна без малого сто лет назад, у меня, как у образованного человека, разумеется, имелось. Вверху экрана, рядом с десятизначными цифрами экономической и социальной статистики, красовались серп и молот в обрамлении золотых снопов пшеницы: герб бывшего СССР.
Игра стояла на паузе, а в центре экрана висело всплывающее меню с текстом «Сохранить ваш мир перед выходом?» И двумя вариантами кнопочек: «сохранить» и «выйти без сохранения».
Я несколько секунд смотрела на экран, и мне вдруг стало нехорошо и страшно. По двум причинам.
Во-первых, в пустом и, как я уже сказала, словно бы остывшем доме, открытый и работающий, чуть слышно жужжащий вентилятором, ноутбук выглядел совершенно явным диссонансом: словно бы хозяин только что выбежал на кухню за порцией кофе и сейчас вернётся.
Во-вторых, потрясающая реалистичность созданного на экране мира придавала этому тексту посередине совершенно сакральный смысл.
Я вдруг представила себе, как выхожу с утра из дома, открываю автомашинку, и вдруг, задрав голову, вижу высоко-высоко в небе, где у нас обычно солнце, всплывающее меню «Сохранить ваш мир перед выходом?» И двумя вариантами кнопочек: «сохранить» и «выйти без сохранения», на одну из которых вот-вот предстоит нажать огромному и неведомому мне творцу по ту сторону экрана. И все-все окружающие меня в этот момент люди, десятки и сотни, тоже подняли лица к небу и смотрят в напряжённом и тягостном ожидании: сохранит или нет? Или сотрёт к чёртовой матери?
Представили себя в такой ситуации: жителем вот такой симуляции, и с такой вот надписью на небе?
Ну, я же говорила: творческая девушка с фантазией. Но испытанная мною по совокупности двух этих факторов жуть подтолкнула меня к тому, чтобы покинуть дом как можно быстрее: и со второго этажа я, признаться, слетела пулей. По возможности аккуратно прикрыв дверь, я помахала пенсионеру, уставившемуся на меня с соседнего участка – типа, всё нормально, чел, я своя, – и поспешно запрыгнула в машинку.
Так рукопись оказалась у меня.
Я всё-таки не настолько кустарно знакома с психологией, чтобы предположить, что ненависть хозяина к «Психологии социализма» Лебона – это результат того, что француз украл у него название его будущей книги: причём украл задолго до рождения моего Хэмингуэя. Это были бы эмоции Остапа Бендера, который при свете ночника накропал «Я помню чудное мгновенье», а потом с раздражением узнал, что до него это уже написал А.Пушкин… Нет, тут, видимо, дело в самом содержании книги, в самом подходе Лебона к вопросу, дело в том ракурсе, под которым тот раскрыл тему.
Это, допустим, как если бы человек захотел написать «Пособие по утиной охоте», написал, озаглавил, потом выяснил, что книга с таким названием уже существует, но открыв её, прочёл триста страниц о недопустимости убийства птиц и о необходимости защиты дикой природы. Или некто написал книжку «Как порадовать друга на Рождество», а потом выяснилось, что он опоздал с названием: другой писатель уже написал такую, в которой гневно доказывает, что ваш друг – козёл, и никаких подарков вообще по жизни не заслуживает, не то что на Рождество…
Если что, я не такая умная. И я это всё поняла не тогда же, в писательском кабинете, а задним числом, погуглив про Лебона и эту его «Психологию». Вот типичная выдержка из аннотаций:
«Книга Гюстава Лебона «Психология социализма» в настоящее время может принести большую пользу в борьбе с социализмом…»
Как вам? И ещё:
«Она выдержала во Франции в короткий промежуток времени пять изданий, переведена на несколько европейских языков и, нужно думать, успела оберечь многие умы от гибельных социалистических увлечений…»
Вот я и говорю: книжка «Как порадовать друга на Рождество» сможет уберечь ваш ум от гибельного намерения иметь что-либо общее с этим козлом, вашим другом… Прочтите «Пособие по утиной охоте» – и вы навсегда потеряете желание охотиться, да ещё вам стыдно станет, что вообще имели такое намерение… Могу понять моего Хэма с его дачным сортиром: прочтите «Психологию социализма» Лебона, чтобы навсегда потерять интерес и к социализму вообще, и к его психологии в частности.
Но совсем уж отказаться от своего намерения писатель не смог: добавил приставочку «мета», отмежевавшись от предшественника, а основной посыл названия сохранил. Я, признаться, сначала отнеслась к этому, как к детскому нежеланию отдать любимую игрушку, или как к тупому патриархальному самцовому упрямству, но прочитав рукопись, поняла, почему именно «метапсихология»: точнее и не скажешь. Будете читать – тоже поймёте.
Короче, самое интересное. Хозяин так и не объявился. Был писатель – нет писателя. Рукопись – вот она: завершена, свёрстана, всё как договаривались. А автора нету. А был ли мальчик-то? Автора в студию! Как мне подсказали наши юристы, у нас в договоре с писателем стоит пункт, согласно которому получение любой новой рукописи в виде, пригодном для издания, и соответствующем требованиям издательства, даёт нам возможность эту рукопись издать: какой-то там акцепт оферты, я до конца не разобралась… В общем, первый раз в моей практике такое: книга есть, а автор как сквозь землю провалился. Впрочем, он и раньше странноват был. Не удивлюсь, если через год отзвонится и скажет «Верочка, золото, жду вас у себя на даче завтра: я всё закончил, приезжайте за рукописью!» Ага, щас. Спасибо, была уже: лучше вы к нам…
Впрочем, если вчитаться в то, что он пишет, становится ясно, что он и через год может не появиться. Вот что за люди эти писатели? Нет бы им в свой астрал только мысленно выходить: нет, так и норовят на объективном уровне исчезнуть. Только, понимаешь, девушек пугают…
с уважением,
Вера Гештальт-Закупорина,
ответственный редактор издательства «Новое измерение»
***
«При осмотре, в частности, установлено:
• двери и окна сохранны, следы взлома и незаконного проникновения в помещение отсутствуют. Входная дверь не заперта;
• в помещении визуально порядок, следов борьбы, кражи или иных правонарушений не обнаружено;
• на кухонной стене размещены декоративные картинки различного содержания. Среди них фотомонтаж (предположительно), изображающий президента РФ В. В.Путина и руководителя «Сбербанка» Г. О.Грефа обнажёнными по пояс, за совместным столом и с бокалами напитка в руках, перед раскрытыми ноутбуками, на фоне тропических пальм, внизу картинки надпись на иностранном языке «Annuit coeptis» (картинка изъята, прилагается).
На другом изображении, большего формата, – деревянное надводное плавательное средство в открытом море, по виду напоминающее библейский ковчег. На вершине плавсредства установлен красный флаг. Под изображением текст следующего содержания:
«Главнокомандующему военно-морским флотом К.Дёницу.
Гроссадмирал! Настоящим уведомляю Вас, что несмотря на все усилия специальной отдельной группировки, в состав которой входили до 15-ти подводных лодок, в том числе класса XXI (Deutsche Werft), цель уничтожить не удалось. Ввиду значительного ухудшения погодных условий группировка вынуждена была покинуть район боевых действий под угрозой собственной безопасности.
Хайль Гитлер!
Капитан цур зее А.Ханнеман»
(картинка изъята, прилагается);
• в помещении второго этажа на столе антикварная пишущая машинка, в которую вставлен лист бумаги с напечатанным текстом «Привет, Верочка! Спасибо, что зашла. Будешь выходить – прикрой входную дверь».
• там же обнаружен ноутбук с запущенной компьютерной игрой (игра стоит на паузе);
• на садовом участке визуально порядок. В дальнем углу участка расположен дачный туалет, дверь которого открыта. В противоположном углу участка установлен дачный сарай, дверь которого закрыта.
Опрос соседей произведён, никаких свидетельств правонарушений не получено, хозяина дачи никто не видел давно, точную дату последней встречи назвать затрудняются».
Из рапорта участкового уполномоченного
Большеводненского РОВД
ст.л-та Титятина С. С.
***
Самое, как пропал? Никуда он не пропадал… Я его видел недавно! Хотя, погоди, давненько уже… Может, месяц, а может, побольше… Он мне рукой так помахал издали и крикнул «Привет, сосед!» Ну, и я ему помахал… Самое, ну как не он? Да точно он был!
Или не он?.. Да нет, он вроде…
Я его вообще редко вижу. Я-то сам на воздухе с утра до ночи: вот, по саду занимаюсь, плотничаю… А он всё в доме да в доме… Ну так, самое, он же писатель вроде: а раз писатель, то пишет, значит, дома, за столом…
Сейчас все писатели.
Вот и у меня племяшка говорит «Я писательница!» А чего, спрашиваю, написала? Три книги, говорит: «Как выйти замуж за миллионера», «Секрет женского успеха» и ещё чего-то такое…
Вон, самое, чего сейчас читают, значит…
А ты чего, спрашиваю, за миллионера вышла? От тебя же вроде этот алкаш ушёл? Как и тот, первый, который жениться не захотел и с ребёнком бросил? Да нет, смеётся, не вышла. А книжку, говорю, написала? А книжку, смеётся, написала.
А этот, сосед-то мой: он чего пишет, не знаете?..
Спать, видать, рано ложится: я как ни посмотрю вечером, у него всегда окна тёмные. Мы со старухой чаёвничаем допоздна… Самое, да как не живёт? А кто ж тут живёт-то? Кому же не знать, как не мне, соседу?! Живёт, конечно…
Да говорю же, редко вижу. Когда? Да говорю же, самое, вот месяца не прошло. Тут и блондинка какая-то от него давеча выходила, я видел. С бумагами в руках, такая ничего себе росомаха, на каблуках… Ручкой мне ещё так сделала: типа, я своя. На машине уехала. Раз баба из дома выходит – значит, живёт, так или нет?..
Станислав Барсукевич, сосед.
Глава 1. Конец прекрасной эпохи
Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те
Времена, неспособные в общей своей слепоте
Отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек.
Белоглазая чудь дальше смерти не хочет взглянуть.
Жалко, блюдец полно, только не с кем стола вертануть,
Чтоб спросить с тебя, Рюрик.
(Иосиф Бродский, «Конец прекрасной эпохи»)
Когда наконец понимаешь, как именно всё устроено, для чего оно нужно, и как оно работает, остаются только две проблемы (ну, кроме проблемы отсутствия денег, но о ней мы поговорим отдельно).
Первая – это сдержать разочарование по поводу того, сколько же времени и сил ты угрохал совершенно не по назначению, и раздражение по поводу того, что именно и как продолжают делать окружающие тебя люди.
Но эта проблема локальная, и в целом эти эмоции хорошо поддаются контролю.
Вторая проблема более серьёзна.
Она состоит в том, что твоё понимание и осознание оказываются крайне неустойчивыми и постоянно норовят тебя покинуть: как если бы ты пытался удержать на бегу пригоршню воды. Вода выплёскивается, течёт сквозь пальцы, и через короткое время ты теряешь её всю, и о ней уже напоминают только сырые ладони… Окружающая тебя реальность словно бы изо всех сил пытается убедить тебя, что это твоё «понимание» – на самом деле не приход в сознание, а ещё более глубокий морок, нежели тот, в котором ты до сих пор пребывал. Мир самым подлым образом вторит: тебе необходимо как можно быстрее вернуться в тот сон, от которого ты с такими потерями и трудом очухался, потому что именно и только внутри этого сна якобы происходит самое интересное, важное и значимое для человека…
Когда Вите было лет восемь или девять, он любил сидеть на подоконнике большой дедушкиной квартиры и смотреть за окно. Пятиэтажные строгие монолитные дома, называемые «сталинками», молодцевато выстроились вдоль зелёного городского проспекта, и к оконному стеклу одного их этих домов прижималась большеглазая мордочка, жадно впитывающая звуки и цвета всего, что происходило снаружи: грохот пробегающего трамвая, суету взлетающей стаи воробьёв, плети дождя, разбивающегося о тротуар, танцующие в замысловатом вальсе пушистые хлопья снега…
«Витька, иди погуляй!» – взывала с кухни бабушка, и он послушно одевался и шёл на улицу. Витино поведение в этом возрасте было поведением маленького даоса, смирно следующего развитию Дао: сидеть так сидеть, гулять так гулять. Впрочем, и в дальнейшем оно поменялось не сильно…
На улице дрались коты, пролетали юные красавицы на предмете Витиного вожделения, велосипеде «Орлёнок» (сами красавицы станут предметом вожделения несколько позже). Прямо во дворе располагалась вереница хозяйственных построек, частных сараев с погребами, и перед ними небольшой сквер: там-то он и располагался на синей скамейке с облупившейся краской. Прогулка, таким образом, на поверку оказывалась ничем иным, как сменой места наблюдения за миром: позиция наблюдателя за миром представлялась тогда, очевидно, Вите куда более выигрышной, чем позиция вовлечённого участника. Впрочем, в дальнейшем не сильно поменялось и это…
Витя смотрел на сверкающие всеми цветами радуги углы и перекладины детской площадки, на ревущие и кряхтящие венгерские «Икарусы», развозившие по домам усталых людей, на беззаботную толпу, колышущуюся у входа в кино, на спешивших домой хозяек с треугольными красно-синими пакетами молока в авоськах… Историк, вероятно, увидел бы во всём этом последние вздохи советского проекта: вздохи, в которых уже ясно прослеживался хрип смертельно больного, ещё пытающегося делать вид, что с ним всё в порядке. Но Витя видел просто качели, деревья и людей, кошек, облака и велосипеды.
«Витька, айда домой!» – окрикивал его возвращающийся с садового участка дед. И они шли домой.
Витя жил у деда с бабушкой, а родителей видел редко: поскольку так было всегда, у него не было ни малейшего подозрения, что может быть по-другому. Отец работал, мать тоже, они были молоды и, по-видимому, сильно заняты: работой, жизнью, собой… Дед работал в саду, неустанно возводя и культивируя на своих шести сотках миниатюрный рай, а бабушка работала на кухне, откуда с утра до ночи доносился аппетитный запах, который неизменно оборачивался вкуснейшими обедами, полдниками и ужинами. Не работал, таким образом, только Витя, словно бы олицетворяя собой первое поколение стремительно надвигающегося мира, в котором работать уже будет необязательно, и в некотором смысле даже зазорно.
Как и все его сверстники, становясь старше, он всё больше погружался в сложный личный мир, главной сложностью которого, разумеется, была непрестанная внутренняя борьба с нарастающими половыми желаниями и внешняя борьба с прыщами. За этим увлекательным сражением обращать внимание на процессы в окружающем мире было, разумеется, некогда, так что юноши позднего СССР почти и не заметили момента, когда хрип в дыхании советского социализма прекратился: собственно, по причине остановки самого дыхания.
Появилось лишь ощущение некоей лихорадочной, и не всегда понятной по вектору движухи, которая сменила ранее свойственный миру размеренный ритм.
Выглядывающие с телеэкранов старшие товарищи начали произносить ранее неведомые слова «перестройка», «демократия» и «гласность», которые, на первый взгляд, не содержали в себе ничего дурного. Однако лица людей в толпе, которая несла транспаранты с этими словами, отчего-то выражали ярость вперемешку с испугом: что разительно контрастировало со счастливым и радостным выражением лиц тех же самых людей, когда они всего за несколько лет до этого несли транспаранты «Мир! Труд! Май!»
По понятным причинам, в попытке сформулировать собственную оценку происходящему Витя оглядывался на деда с бабушкой, пытаясь прочесть на их лицах намёк на то, как следует ко всему этому отнестись.
Бабушка, человек лёгкий, весёлый, компанейский, обожавший гостей и праздники, никаких видимых изменений в своём поведении не демонстрировала, за исключением одного: она почти перестала смотреть телевизор, что до этого было их с дедом общей ежевечерней привычкой. Разрубив таким образом единственный доступный канал общения с миром геополитики, она полностью сосредоточилась на собственных кулинарных фокусах, и её привычное «Витька, иди поешь!» раздавалось всё чаще: бабушка словно бы старалась накормить его впрок, как бы в предчувствии того, что спустя всего пару лет перестройки и демократии на полках продуктовых магазинов останется только мусор и пыль.
Дед, человек молчаливый, подтянутый внутренне и внешне, к сводкам из внешнего мира относился прямо противоположным образом: он прослушивал и просматривал всё. На лице его при этом сохранялось выражение опытного игрока в покер, не желающего ни намёком показать сопернику собственную комбинацию, но явно догадывающегося о том, какие карты у соперника. И комбинация соперника ему, очевидно, энтузиазма не внушала: выключив поздно вечером телевизор, дед погружался в глубокую задумчивость, которая мало-помалу переросла в задумчивость повседневную…
Главным медийным персонажем того времени, и одновременно руководителем страны, стал забавный лысый человек с огромным родимым пятном на голове, который, неправильно расставляя ударения в словах, рассказывал об изменениях к лучшему и о сближении с Западом. Для Вити и его товарищей, к тому времени уже половозрелых и совершеннолетних, и занятых по этим причинам исключительно собой, все эти слова, как и сопутствующие им процессы, оставались странноватой игрой, которой по каким-то причинам увлеклись их родители. Проснувшись как-то летним утром после грандиозной студенческой пьянки на пляже турбазы, они с удивлением узнали из телевизора, что за три августовских дня, пока над ними властвовали Бахус и Эрос, в стране дважды поменялась власть: по воодушевлению диктора, многократно произнесшего странную аббревиатуру ГКЧП, можно было сделать вывод, что победа в итоге всё же осталась за правильными пацанами.
В этот же год умер СССР, бабушка и дед.
Говорят, что успех семейной пары – это жить долго и счастливо, и даже умереть в один день. В в этом смысле Витькины дед с бабкой программу выполнили настолько точно, что даже непонятно было, радоваться за них, или предаться мистическому страху по поводу того, что даты смерти, выбитые на их памятниках, отличаются всего одним календарным днём.
После их ухода Советский Союз покряхтел ещё пару месяцев и тоже сгинул в небытие, уступив место странноватой государственной конструкции, которая, как немедленно сообщили по телевизору, вместо русских населена теперь россиянами. Никаких объективных предпосылок к его смерти не было, тем более, что Союз даже по возрасту был моложе и бабушки, и деда: просто три мужика как следует выпили на лесной даче, и потом, чёрт его знает под чью диктовку, составили и подписали бумажку о том, что СССР больше нет.
Самое удивительное, что ни в одной из трёх республик, которые эти трое представляли в качестве руководителей на упомянутом пленэре, ни в России, на на Украине, ни в Белоруссии, при этом не нашлось достаточного количества других мужиков, способных поставить под сомнение принятое таким образом решение.
Лысый человек с родинкой тоже особо не возражал по поводу вытащенного у него из-под задницы руководящего кресла, вместе со страной, так что в России кресло перешло к одному из этих троих: высокому уральцу с внешностью и повадками директора строительного треста. Десять лет, в течение которых директор будет постепенно спиваться на глазах всей страны, были ещё впереди, так что выглядел он браво и всячески старался вселить в окружающих уверенность в начале некоей новой и светлой эпохи.
Однако потом начали погибать люди.
Прожив почти двадцать лет в стране, где бытовое убийство было из ряда вон выходящим обстоятельством, по поводу которого вставала на уши вся окрестная милиция, Витя сотоварищи со всё нарастающей тревогой наблюдали, что репортажи о событиях внутри любимой Родины становятся почти неотличимы от сводок с театра военных действий. На фоне полномасштабных боёв с применением тяжёлой техники и массового захвата заложников в школах и театрах, уголовные убийства с целью отъёма квартиры или контроля над городским рынком уже начали даже выглядеть разновидностью нормы.
В жизни некогда большой и успешной страны появился и ещё один нюанс, который, как потом выяснилось, и был главной целью и результатом происходящих перемен.
Радостные румяные лица рабочих и колхозниц с плакатов тридцатых годов окончательно посыпались в стороны, как разрушенный карточный домик, и на передний план выдвинулся тяжёлый лоб золотого телёнка, увитый массивными рогами в виде процентов по кредитам. Поводя очами, телёнок внимательно оглядел обширные российские угодья, доставшиеся ему в качестве нового пастбища, и принялся жевать и глотать со всей невозмутимостью и последовательностью, свойственной представителям его племени.
Оглушённому и растерянному обитателю одной шестой части суши появившиеся откуда ни возьмись уполномоченные по рогам и копытам быстро разъяснили несколько вещей. Во-первых, ему теперь нужны деньги, во-вторых, ничего другого ему больше не нужно, и в-третьих, получение им денег более никак не связано с результатами его труда: достаточно своевременно проинвестировать в нужную финансовую пирамиду или просто истово демонстрировать максимальную лояльность золотому бычьему рылу, отныне хорошо заметному со всех уголков необъятной Родины.
По стране прокатилась вторая волна смертей, на этот раз финансовых: по странному стечению обстоятельств, необъяснимому для плохо подкованных экономически аборигенов, каждый политый их солёным потом камень, который они принесли в основание финансовой пирамиды, тут же становился чьей-то чужой собственностью. Столпившимся у подножия пирамиды бывшим трудящимся осталось только с тоской смотреть на вершину пирамиды, откуда сквозь облака снисходительно поглядывал на них чей-то незнакомый глаз…
Если в этот момент у неудачливых инвесторов и возникло ощущение, что они слишком задёшево продали Родину, то они, безусловно, ошибались: продажей их Родины в этот момент занимались совершенно другие люди. Вернувшись уже без денег в бесплатно полученные от прежней Родины квартиры (те, у кого квартиры к этому моменту ещё остались), они включили там телевизор и с удивлением узнали, что все главные сырьевые и перерабатывающие ресурсы их бывшей страны теперь находятся в руках узкой группы лиц по предварительному сговору, на что даже имеются специальные бумаги с фиолетовыми печатями.
Окончательно осознав, что продажа Родины произошла без его участия, пригорюнившийся бывший советский человек надолго прилип к телевизору. А там бодрый веснушчатый джентльмен с соломенными волосами объяснял, что произведённая распродажа на самом деле была не экономической сделкой, а борьбой с коммунизмом, где каждый отданный за бесплатно завод был гвоздём в крышку гроба этого самого коммунизма. Чем именно был настолько плох коммунизм, чтобы его хоронить, да ещё забивать крышку его гроба заводами, фабриками и шахтами, рыжий джентльмен не пояснил, однако существенная часть телеаудитории с тех пор осталась в эмоциональном убеждении о необходимости вбить осиновый кол в место погребения самого оратора: что, впрочем, скорее всего не изменило бы принципиально ситуацию ни тогда, ни впоследствии.
Тем более, что реальное вколачивание гвоздей в крышку гроба производили совсем не экономисты с политиками, а музыкальная группа «Ла-Ла»: появившиеся откуда ни возьмись пятеро молодых смазливых красавцев, с подведёнными тушью ресницами, во главе с музыкальным продюсером Гарри Али-Бабасовым. После того, как ребята открыли рот, из явившегося репертуара бывшему советскому человеку стало окончательно ясно, что он уже никогда не услышит ни «Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы!», ни тем более «Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз», ни даже хотя бы « Письма сам я на почту ношу, словно я роман с продолженьем пишу».
На всё происходящее Витя Алябьев и его ровесники смотрели одновременно с цинизмом, свойственным молодому успешному хищнику, и с непониманием, присущим молодому тупому травоядному. Воцарившийся в стране абсолютный бардак в течение нескольких лет сделал многих из них, включая самого Витю, довольно состоятельными людьми: они могли продемонстрировать все атрибуты успешного предпринимателя новой России, от набитой блядьми дорогой иномарки до расписной визитки, на которой значилось заклинание вроде «Региональный межотраслевой инвестиционно-консалтинговый фонд». Успев использовать щедрость «совка», раздававшего направо и налево бесплатное высшее образование вплоть до самой своей смерти, Витька даже запрыгнул на бюджетное место в престижный ВУЗ: правда, ещё не вполне понимая, что полученный им диплом в условиях новой Родины пригодится только для хранения в письменном столе.
Никаких объективных предпосылок к тому, чтобы стать носителем социалистических взглядов, у Вити, таким образом, как бы не было.
Точнее, была одна. И она, признаться, носила не вполне материалистический характер…
Есть некая дрожащая в воздухе невидимая струна. Эта струна идёт неизвестно откуда и неизвестно куда, и не представляется возможным увидеть те колышки, на которых она закреплена. Но она издаёт звук: именно этот звук и порождает вокруг всех нас всё то, что мы принимаем за окружающий мир. Небо с облаками или без, деревья у воды, вспорхнувшая стая птиц, сами люди, наконец, – всё это результат дрожания этой туго натянутой струны, издающий не столько слышимый, сколько ощутимый – ощутимый каждой клеточкой тела – звук.
То, что весь наш мир порождается колебанием некоей невидимой струны, давно уже признано мистиками и философами, а с недавних пор стало очевидно и для учёных-физиков.
И с некоторого времени эта струна зазвучала на очень низкой ноте: Вите это стало понятно как человеку, восемь лет из-под палки посещавшему музыкальную школу. Как ему представлялось, это была даже не нота «до»: это был уже инфразвук, вроде того, что формируется в океанском воздухе перед показательным штормом и заставляет людей в необъяснимом для них ужасе прыгать с палубы за борт, превращая собственное судно в брошенный на волю волн «Летучий голландец».
Первыми тот факт, что натяжение этой вселенской струны падает, и она вместо чистой и высокой ноты начинает издавать похоронное дребезжание, ощущают люди с острым поэтическим и музыкальным чутьём: тогда-то и появляются строчки вроде «Нет, ребята, всё не так: всё не так, как надо!»…