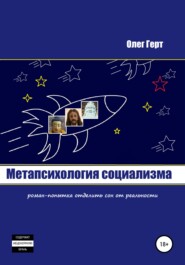скачать книгу бесплатно
С’est la vie, такова социальная динамика любой масштабной исторической трагедии.
На Витю я обратил внимание несколько позднее, и по причинам довольно специфического свойства. Успешный предприниматель новой России, достигший определённых высот того днища, в которое эта Россия постепенно превращалась, он вдруг захандрил и начал думать.
А когда социально преуспевший человек, вроде бы ни с того ни с сего, вдруг начинает думать, причём на совершенно неподходящие для такого человека темы, вроде размышлений о ближнем своём, и о приемлемости собственного социального успеха с экзистенциальной точки зрения, это может означать одно из двух: либо у человека проснулось чувство вины, либо началась шаманская болезнь.
И вот во втором случае он как раз и попадает в поле моего зрения.
Проснувшаяся в человеке вина – дело не совсем моего профиля. Такого человека с удовольствием подхватят в свои объятия профессиональные модераторы РПЦ, и он в течение всей оставшейся жизни будет исступлённо жертвовать на храмы, иногда даже в объёмах, позволяющих в приделе нового собора повесить именную доску с именем жертвователя. Или его возьмут в оборот люди из другого ведомства, и тогда он станет учредителем многочисленных благотворительных фондов, откуда будут финансироваться образование, культура и спорт в его городе, республике или даже в целом в стране (в норме, понятно, эти расходы должны нести соответствующие бюджеты, но, по некоему несчастливому стечению обстоятельств, именно на эти цели денег в этих бюджетах давно уже нет, и более никогда не будет). А тут, так сказать, такой случай: богатый успешный человек с внезапным чувством вины за содеянное, то есть верный способ ликвидировать любой бюджетный дефицит.
В общем, пока проснувшимся чувством вины в России занимаются РПЦ и ФСБ, людям моей специальности делать там нечего. Да и, честно говоря, я и мне подобные (а нас по стране и в мире, в целом, достаточно) заниматься этим не стали бы даже при отсутствии конкуренции в этой нише. Чувство вины имеет ту неприятную специфику, что: а) его можно подавить или скрыть; б) оно способно столь же внезапно уснуть, сколь неожиданно и проснулось. А вот люди, подвергшиеся шаманской болезни, – предмет моего самого непосредственного интереса, ибо этот процесс, в отличие от процесса пробуждения совести, суть билет в один конец. И уж коль скоро с человеком это начало происходить, то весьма скоро он, как минимум, окажется способен на явно выходящее за рамки привычного мышление и поведение, а как максимум, пополнит наши ряды. Поэтому такого человека мы «ведём» с самого начала, с момента появления первых признаков: именно поэтому я и обратил внимание на Витю несколько лет назад.
Вероятно, здесь следует сказать несколько слов о «шаманской болезни».
Как и в почти любом связанном с шаманством вопросе, вокруг этого накручено немало шизы: причём существенное количество её накручено нами самими. Что поделать, конспирация.
Но, в отличие от обладателей популярной и доходной нынче профессии «конспиролог», шаман действует не по принципу «Я знаю нечто такое, о чём вы все даже не подозреваете!», а по прямо противоположному: «Я не знаю ничего такого, чего вы не могли бы знать сами, если бы хотели это знать».
В этой связи любой бред по любому вопросу генерируется шаманом исключительно с целью прикрыть вопрос от людей, которые сами не хотят обращать на него внимание. Примерно так же действует ресторатор: он не заставляет шеф-повара резать шею курице прямо на столе перед вами, чинно усевшимся гостем, тем самым давая вам благостную возможность считать впоследствии появившегося перед вами цыплёнка табака не истекшей кровью птицей с недавно отрубленной головой, а аппетитным блюдом в обрамлении овощей и приправ.
Он не лишает вас права на незнание, он оставляет это право за вами. Помимо вашей воли лишить вас вашего права на незнание – значит, нарушить вашу свободу. Права на незнание человек может лишить себя только сам…
Шаманская болезнь никакой «болезнью» в медицинском смысле этого слова не является. То есть у нас не поднимается температура, не расстраивается нормальная работа ни одного органа тела, нет физических болей. Шаманская болезнь также не является ни сумасшествием, ни «кратковременным расстройством психики», как это иногда описывают. Если сказать совсем просто, то суть шаманской болезни состоит в следующем: человека разбирают на кусочки, на молекулы, на атомы, на эфирные частицы, а затем собирают заново. И получившееся в результате сборки существо уже кардинальным образом отличается от того, что было «до».
Кто разбирает? Ну, а какая разница? Хотите, я вам скажу, что человек сам себя разбирает?.. Будет это истиной? Разумеется, нет. Но вот кто разбирает на атомы вас? Вы, разумеется, знаете тот простой факт, что человеческое тело полностью обновляется в среднем один раз за семь лет. Вы постоянно теряете кусочки кожного покрова, клетки ваших внутренних органов отмирают, а на их месте рождаются новые. Через семь лет вас уже нет: есть ваш клон, собранный точно по тому же проектному чертежу. Ну, или почти по тому же: с чуть более обвислой задницей и с новыми морщинами на лице.
Столь же неуклонно и постепенно изменяется и ваша психика, и содержимое вашего мышления. В двадцать лет вашей главной доминантой является спаривание, и ваше стремление удачно и продуктивно спариться определяет почти всё, что вы думаете, говорите или делаете. В сорок лет на её место приходит другая доминанта, которую кратко можно охарактеризовать как сожаление по поводу утраты предыдущей, и одновременно как надежду отыметь теперь если не кого-нибудь из окружающих, то хотя бы жизнь в целом, а заодно и свой стремительно нарастающий возраст. В шестьдесят ваша психика и мышление состоит из хрупкого баланса между гордым ощущением, что вы наконец-то всё поняли, и липким страхом, что вы так и не поняли ничего. В восемьдесят главной доминантой становится интерес, удастся ли самостоятельно нагнуться за тапками, или придётся звать внука. Потом вы умираете.
Но все эти изменения, как телесные, так и душевные, как внешние, так и внутренние, как легко заметить, занимают существенное время, то есть всю жизнь.
А вот шаманская болезнь – это процесс, при котором возрастные изменения в вашем мышлении и психике спрессованы во времени до предельно возможных пределов. Это как если бы вам в течение пяти минут показали сериал из пяти сезонов. Результатом, как правило, становится то, что человек, внешне выглядящий на тридцать или на сорок, получает внутренний мир, подлинный возраст которого мне установить сложно. Нет, внутри шаману не восемьдесят, и даже не сто: иначе, как в моём примере, он просто стал бы человеком, полдня пытающимся надеть тапки. Такой результат в психике тоже возможен, но он достигается посредством форсированной алкогольной деградации, а не посредством шаманской болезни. А шаману гораздо больше внутренних лет, нежели сто, и взгляд его на мир становится соответствующим.
Многим интересно, что субъективно чувствует шаман во время шаманской болезни. В смысле, не больно ли ему: пусть не физически, но душевно?
Как вам сказать… Больно – это когда вам в ладонь вколачивают гвоздь. То есть когда в пространство вашей плоти входит острый металлический стержень, разрушающий небольшую часть этой плоти. Душевную боль можно иллюстрировать так же: это когда в некое условное пространство вашей души входит некий условный стержень, пронзая её насквозь и нарушая её целостность.
В любой из этих ситуаций оставшееся целым пространство существенно больше по площади, чем то, что нарушено, правда? И образовавшаяся в ладони дырка куда меньше, чем площадь всей остальной, уцелевшей ладони…
А вот что сказать о ситуации, когда в ладонь одновременно вколачивается ящик гвоздей? То есть когда площадь разрушающего объекта раз эдак в пять-десять больше площади разрушаемого?..
«Гвоздь в ладонь» больно именно потому, что вся остальная ладонь цела, за исключением того места, в которую вколочен гвоздь. «Гвоздь в душу» больно по этой же причине: эту болезненную дырку есть, с чем сравнить, её можно сравнить с оставшимся, с уцелевшим и нетронутым.
Но при вколачивании что в ладонь, что в душу, сразу ящика гвоздей ранее существовавшее пространство, в которое он вколочен, утрачивается целиком.
То есть сравнивать более не с чем.
И болеть, в общем-то, тоже как бы более нечему. Знаете детский стишок? «Если в сыре много дыр, значит, вкусным будет сыр. Если в нём одна дыра, значит, вкусным был вчера…» Одна сплошная дыра в сыре – это отсутствие сыра. Так же и тут.
Как я и сказал, шаманская болезнь приводит к достижению внутреннего возраста, который вряд ли можно определить конкретной цифрой. В математике есть такое забавное число «алеф», которое определяется как наименьшее бесконечное число. Если вам показалось, что вы поняли определение, повторяю: наименьшее бесконечное. То есть оно, конечно, бесконечное, но кроме него есть и другие, которые все больше него. Скажем, геометрически алеф-0 можно понимать как совокупность всех точек на прямой, алеф-1 как совокупность всех точек на плоскости, алеф-2 как совокупность всех точек трёхмерного пространства, ну и так далее. На что похоже, ну хотя бы, алеф-4, я предлагаю вам представить самостоятельно.
Так вот, шаманская психика и мышление – это своеобразное число «алеф», это наименьшее бесконечное. То есть максимальный объём опыта и знаний, способный поместиться в рамках отдельно взятой психики и мышления. Или, если точнее, способный быть воспроизведённым в рамках отдельной психики и мышления: а то вы ещё, чего доброго, подумаете, что у шамана на самом деле внутри что-то есть, что-то «помещается».
А у него внутри вообще ничего нет.
И вот это, признаюсь, самое странное, и где-то даже лично для шамана неприятное.
Почти каждый человек с гордостью способен предъявить вам набор собственных мнений, убеждений, прозрений. Он с удовольствием скажет «Я знаю, что…» или «Я считаю, что…». Он охарактеризует вам свою так называемую личность со всех её семи радужных сторон, и этот причудливый гейский зонтик надёжно защищает его от дуновений любых мировых ветров и любого дождя из окружающей среды.
А у шамана этого зонтика нет. У него нет мнений, убеждений, установок, политических позиций и идеологических воззрений. Вселенские сквозняки пронизывают его насквозь, а дождик хлещет сквозь его протекшую крышу прямо на земляной пол, не встречая на своём пути вообще никаких препятствий.
Поэтому у обычного человека при общении с шаманом и появляется столь странное ощущение: что в лице этого довольно безликого человека – с бубном или без, в звериных шкурах или одетого в лён и хлопок, – с ним общается и разговаривает что-то другое.
Не чужое «Я». А, как минимум, какое-то крайне вместительное «Мы». В котором даже личность собеседника шамана, вот это самое его радужное великолепие, тоже каким-то непонятным образом присутствует.
Я же говорю: наименьшее бесконечное.
Но для самого шамана, повторяю, субъективно это переживается не всегда хорошо, особенно поначалу. Потом, конечно, мы привыкаем. Но первое время это для тебя выглядит, как если бы тебе предложили произнести речь в микрофон, и ты уже даже открыл рот, а тебе в последний момент сунули написанный кем-то заготовленный текст. И ты с горечью осознал, что говорить придётся не то, что ты хочешь, а то, что от тебя требуется. А ещё через секунду понял, что это не ты будешь говорить эту речь в микрофон, а что микрофон – это ты и есть.
От клинического сумасшествия это отличается, на самом деле, только одним: твоей способностью всё это осознавать и возможностью это контролировать, в том числе в любой момент прекратить. То есть, если хочешь, можешь выкинуть этот подсунутый кем-то листок, и начать нести отсебятину.
Но в том-то всё и дело, что ты не хочешь.
В общем, по поводу шаманской болезни я вам, как мог, объяснил. Кто сможет, пусть объяснит лучше. Переживаем мы её один раз за жизнь, и этот один раз – субъективно очень неприятен. Вот лучше бы правда болели, честное слово. А так… Если вы в состоянии представить себе, как себя чувствует пазл из 51 300 элементов, после того, как его разобрали и свалили в коробку, то вот это оно и есть. И это единственный раз за жизнь, когда мы это состояние контролировать не можем. А потом, когда шаманская болезнь проходит, уже можем – как будто оно, это состояние, всегда с нами было, и как будто так и должно быть.
Прежде чем снова заговорить о Викторе Алябьеве, скажу ещё пару слов о своём имени. Вы можете спросить, что означает имя Эрегорд Харальд Агер. Это не одно имя, а сразу три: первое, личное, даёт нам наставник при посвящении, второе – тайное, для общения с духами. Поэтому второе имя у меня не «Харальд»: это я только вам так говорю, а настоящее моё второе имя знают только духи. А третье имя – общинное, для людей, под которым тебя все знают. Так что можете называть меня Агер.
Если же вам интересно, что означает каждое из этих слов в отдельности, то я вам так скажу: а что означает ваше собственное имя? То, что имели в виду родители, когда вас так называли? То, что вы читаете в интернете по поводу своего имени? Вероятно, одно из этих двух. Я вообще пока не встречал людей, которые способны были бы дать своё собственное толкование своему имени. Ну, представьте: вы говорите «Меня зовут Маша, и под этим своим именем я имею в виду вот что…»
Так же и мы, шаманы. Что там вкладывал наставник в моё первое имя при посвящении, я не знаю: и уже не узнаю, поскольку старик давно умер. Что имеют в виду духи, когда называют меня моим вторым именем, я тем более не догадываюсь. А уж что вы имеете в виду, обращаясь ко мне «Агер», это уж, само собою, вам решать.
Но вернёмся к Вите Алябьеву.
Да, и забыл сказать вам одну крайне важную вещь. Важно помнить, что…
Глава 8. Дегустация уксуса
– Почему мне кажется, будто я уже очень давно вас знаю?
– Потому что вы мне нравитесь, и мне ничего от вас не надо.
А ещё потому, что мы понимаем друг друга.
(Рэй Брэдбери. «451° по Фаренгейту»)
Как ни удивительно, но по мере того, как они отходили от харчевни, небо рассеивалось, и прохладный ветер утихал. В окружающем мире понемногу пропадало ощущение тревоги, которое столь явственно проявляется перед грозой: словно бы чья-то невидимая рука плавно повернула некий регулятор, возвращающий окрестный пейзаж в состояние покоя и безмятежности. Витя топал рядом с Сидом, стараясь делать то же самое, что и всё своё время пребывания здесь: то есть не делать ничего, включая «не думать», и предоставлять событиям происходить в той последовательности, в какой им заблагорассудится.
Дорога внезапно резко нырнула под уклон, и перед ними открылся вид на просторную зелёную долину.
Примерно в километре впереди виднелось странное сооружение, напоминающее амфитеатр, с белыми колоннами и кольцевыми трибунами. Возле него колыхалась весьма приличная людская толпа, по-видимому, постепенно проникая внутрь.
– Нам туда, – сказал Сид, указывая рукой вперёд, – Ты теперь пойдёшь повеселее, да? Можешь идти, только когда цель указана и видна? Дорога ради самой дороги – не для тебя?
Он явно старался быть неотразимо остроумным.
– Не зубоскальничай, – попросил Витя, – Устал я от тебя. Слова в простоте сказать не можешь.
Сид состроил довольную гримасу. Они начали спускаться с холма, оставляя за собой клубы просёлочной пыли.
– Вот так и появился дзен-буддизм, – сказал Сид, – Человек устал цепляться за смысл произносимых слов. И начал потихоньку постигать и мир, и другого человека, не через слова, а напрямую. А чтобы такое произошло, произносимых слов должно быть очень-очень много, и они должны постоянно опровергать друг друга. Это и есть дзен-буддизм: парадоксальная бессмысленность или бессмысленная парадоксальность. Сам по себе никакой ценности не имеет. Но как побочное средство к пробуждению – бесценен.
– Можно подумать, ты его изобрёл, – буркнул Витя.
– Изобрёл-то я, – сказал Сид, – Просто не я запатентовал… Разговаривал вот так же, как с тобой, с учениками. Они сперва честно пытались понять. А потом у них перемыкало, вследствие чего самые продвинутые осознавали бессмысленность слов вообще. Да. Сначала придумали «коан». Знаешь, что это?
– Более-менее. Это загадка без разгадки. Ну, например: если положить яйцо в бутылку и кормить вылупившегося гусёнка, пока он не вырастет, то как потом вытащить гуся из бутылки, не разбив бутылку?
– Ну и как?
– Хлопнуть в ладоши и сказать: смотри, гусь-то снаружи!
Сид удовлетворённо кивнул.
– Ну да, – сказал он, – То есть перестать создавать проблему, вместо того, чтобы ломать голову, как её решить… Ну, а потом всё это коановое мышление превратилось в «дзен-буддизм». Кто-то из учеников так назвал… Я же говорю: вы обожаете на всё навешивать ярлыки.
– Там, откуда я прибыл, сейчас главный коан – это где взять денег, – сказал Витя, – Или другой: как жить без денег? И та и другая загадка не имеют разгадки. А если их совместить в одну, то получается суперкоан: где взять денег, если без них не прожить, и как без них прожить, если их негде взять?
– Делаешь успехи. Ну, и?.. Надо хлопнуть в ладоши и что сказать?
– Сказать: смотри, денег-то и нету!
Сид остановился и внимательно взглянул на Витю. Витя смотрел на него с залихватским выражением остряка, ожидающего реакции на выданную шутку. Однако Сид выглядел совершенно серьёзным. Потом он повернулся, пошёл, и Витя послушно потопал вслед за ним.
– Ты вот по этому поводу остришь, – сказал Сид, – Что совершенно естественно для поколения людей, в мышлении которого деньги сродни воздуху. Кислороду. Кровеносной системе. Действительно: как вам жить в отсутствие воздуха? В ситуации остановки вашего кровотока?
– Деньги – кровь экономики, – процитировал Витя, – Не помню, кто это сказал.
– Вот-вот, – подхватил Сид, – Ещё и экономика у вас. То есть система отношений между людьми в условиях тотального дефицита ресурсов. Короче, как нам всем жить, если постоянно чего-то не хватает? Ты на эту тему вот с ним поговори, – он кивнул вперёд в сторону приближающегося амфитеатра, – Эти вопросы по его части. Он тебе лучше меня растолкует и про деньги, и про экономику, и про организм с кровью и воздухом. Объяснит, какая такая раковая опухоль жрёт с этого организма столько, что всем прочим клеткам уже не хватает ни воздуха, ни крови…
– С ним? Это с кем? – переспросил Витя, – Ты мне, может, уже объяснишь, куда мы идём? Это что там за место? А то ведь придём скоро… Глянь, какая толпа: очередь придётся занимать.
– Не придётся, – ответил Сид, – Я там, так сказать, выступаю. И ты пройдёшь: типа, со мной.
– Выступаешь? Да ну! А чего делать будешь? Танцевать? Хотя нет, ты же не Шива… Петь? Фокусы показывать? Нет, понял: байки травить! Или номер по ментализму какой-нибудь: давайте я сделаю так, что вы сейчас все подумаете о белой обезьяне…
– Нет, – сказал Сид, – Уксус пробовать.
Пару минут мы прошли в полном молчании. На лице Сида было довольное выражение малыша, который задал маме остроумную, на его взгляд, загадку, и наслаждается её искренними потугами. На моём, по-видимому, присутствовала гримаса лёгкой досады: я совершенно точно слышал уже раньше этот звон, я понимал, что слова «пробовать уксус» должны мне что-то говорить именно в связи с его персоной, вот только не помнил, что именно.
Ладно, подумал я, всё равно сейчас придём, там и увидим. Вот ведь довольная рожа… Надо его ещё кое-что спросить, пока не забыл.
– Слушай, – сказал я, – Ты вот говорил о страдании… Человек вышел из роскошного дворца, в котором прожил без проблем половину жизни, и увидел людей в болезни, нищете и смерти. И осознал, что жизнь суть страдание. Так?
– Ну да.
– То есть получается, что не надо просто выходить из дворца? Там-то внутри ведь страдания нету? Отгородился каменным забором от всего этого чернозёма, как твой папа, и радуйся жизни… Где страдание-то? Только у тех, за забором. А если мне их, допустим, не жалко?
Некоторое время он шёл молча.
– Ты не понял, – ответил он наконец, – Страдание не по какую-то сторону забора. Страдание – это сам забор.
Теперь на время замолчал я. Потом, вспомнив весь свой опыт общения с ним и наш недавний разговор, искренне решил перестать скрипеть мозгами по поводу всего, что он говорит, и просто требовать объяснений из первых уст.
– Не понял.
– Видишь ли… Когда я вышел за ограду дворца, я осознал не только то, что люди за оградой страдают. Я осознал и другое, в не меньшей степени: что я страдаю. Все мы, те, кто внутри дворцовой ограды, страдаем так же, как и те, кто снаружи. Сама ограда и есть страдание. Тут просто орлянка, просто подброшенная вверх монетка, что пробудился именно тот, кто вышел из дворца наружу, а не тот, кто вошёл снаружи во дворец. Как ты понимаешь, выйти наружу на три порядка проще, чем войти…
Но если бы вдруг кто-то снаружи пробрался во дворец, то есть преодолел ту же ограду, но в обратном направлении… Понимаешь, посмотрев на маминых компаньонок с осоловелыми от гашиша глазами, или на папиных министров, вечно потных в ожидании того, что выгонят или предъявят по полной программе, он бы тоже решил, что мы там все страдаем. Причём очень жёстко. По сравнению с его повседневным житием с миской риса и глотком свежего воздуха ему эта картинка показалась бы бездной. Причём в прямом смысле: ямой без дна. И пробудился бы уже он: тоже бы сказал, что жизнь есть страдание, и Буддой потомки называли бы его…
– Вот ты переживал бы…
– Сама ограда и есть страдание, – продолжал он, покосившись на меня, – Как только возникает забор, который делит людей на два сорта – на тех, которые по эту, и которые по ту, на тех, кому можно и кому нельзя, на имеющих и не имеющих – возникает страдание. Сама возникшая дуальность – «мы» и «они» – порождает страдание. Причём и у тех, и у других.
Сид снова помолчал. Мы подходили уже совсем близко к причудливому сооружению, так что стал слышен рокот осаждающей его толпы.
– И самое интересное, – подытожил Сид, – Совершенно не имеет значения, кто именно строит ограду. Ты думаешь, её строят изнутри дворца? Отгораживаясь от этого, как ты сказал, чернозёма?
– Логично было бы…
– В том-то и дело, что её строят обе стороны. Те, которые снаружи, помогают. Я бы даже сказал, проявляют двойное усердие.
– Они-то почему?
– Потому же, что и те, кто внутри. Из страха. Те, кто внутри дворца, они ведь в глубине своей понимают, что жизнь нельзя приватизировать, нельзя присвоить право жить только себе, а прочим оставить право выживать. Поэтому в своих попытках это право присвоить и строят забор: страшно. А те, кто остаётся снаружи, пугаются того, чтобы просто сказать «А чего это тут вы, ребята, нагородили? А ну-ка убирайте, пока не огребли…» Им даже от мысли такое произнести уже страшно. А обоим – и тем, и другим, – ещё страшнее от того, что ведь если забора не будет, то у всех появится свобода и ответственность. И за самих себя, и за тех ребят… И друг с другом придётся сосуществовать, жить и совместно отвечать за всё. И утратится возможность валить друг на друга вину за собственное страдание. Понимаешь?
– Понимаю, чего же нет, – ответил Витя, – Я ведь из России. У нас сто лет назад снесли этот дворцовый забор… Усилиями тех, кто снаружи. И не сказать, что плохо стало… Действительно, ушло страдание, лет на семьдесят. Трудности, преодоление, терпение, конфликты, жестокость, одним словом, боль – осталось. А вот страдание – да, ушло. Вместе с забором. Я где-то слышал, что страдание хуже боли, потому что страдание – это боль по поводу боли. Боль – это когда тебе тяжело. А страдание – это когда ты понимаешь, что тяжело конкретно и навсегда…
– Да, такова природа страдания, – кивнул Сид, – Ваша гражданская война в России, которая шла десять лет после сноса забора в 1917 году – это боль. А та, которая шла пятьсот лет до его сноса – это и было страдание. Но ты заметь: большинство людей, живших внутри дворцовой ограды – ну те, которые «вальсы Шуберта и хруст французской булки» – они ведь оказались способны жить совместно с ребятами снаружи? И жили потом, и строили, и вместе воевали?
Витя начал думать, что о политических и исторических трендах Сид осведомлён гораздо лучше, чем показал Вите при первом знакомстве, когда с напускным непониманием интересовался у Вити особенностями взаимоотношений России и Америки. Даже и в эстрадной попсе подкован…
– Ну да, – сказал Витя, – Брусилов, Карбышев, Рокоссовский… Да миллионы имён.
– А это означает, – Сид поднял палец, – Что ломали этот забор изнутри с не меньшим желанием, нежели его ломали снаружи, раз потом так решительно бросились друг другу в объятия… Что доказывает, что страданием он был и для тех, и для других… Но мы пришли.
В самом деле, прямо перед ними уже возникла плотная стена из спин, которые медленно, но настойчиво двигались в сторону главного входа в амфитеатр. Спутник подмигнул Вите, приглашая следовать за собой, а потом юркнул куда-то в сторону, огибая толпу, и спустя минуту они оказались возле неприметного бокового входа, прикрытого от посторонних глаз тенью невысоких акаций.
Или не акаций. Утверждать здесь было нельзя ничего.
Возле входа стояли два крепких человека в странноватых накидках белого цвета, несколько напомнивших мне римские тоги. При виде Сида они почтительно наклонили головы и слегка отступили в сторону. Они вошли.