
Полная версия:
Вадим Сидур «Мир без человека мне не интересен». Часть II. «Однажды они спустились в подвал». Друзья, почитатели вспоминают…
Тем больше цена реальной жизненной стойкости. «Может быть, самое трудное, – записывает Сидур 25.08.74… – зная бессмысленность существования, продолжать жить и работать.
А если ты веришь в НЕГО, то гораздо легче. OH думает за нас. OH наградит».
11. Религия
Один из персонажей Даниила Хармса назвал «неприличным и бестактным» вопрос «Веруете ли вы в Бога?» Обоснование Хармса звучит юмористическим парадоксом, но затруднение, которое порой вызывает этот вопрос и у верующих, и у неверующих, заставляет ощутить в самой его постановке какую‐то упрощенность, некорректность. Сидур в одной из записей (18.03.74) называет себя «атеистом, верующим в Христа – сына человеческого». Говоря о «религиозном начале» в своем творчестве, он в интервью пояснял, что имеет в виду прежде всего христианские заповеди, «ибо до сих пор люди нe смогли сформулировать ничего более человечного». Распятие, голова Спасителя в колючем венце, библейские образы – постоянные мотивы его графики, живописи и скульптуры. Но что общего у этого «религиозного начала» с какой-либо церковной верой? в конкретном исповедании Сидуру видится уступка, слабость, упрощение, в конечном счете идолопоклонство. «Если верят в ТЕБЯ, зачем в церковь ходят? – записывает он воображаемый разговор с Богом. – Идолопоклонством занимаются… Сам идолам поклонялся, – тут же, впрочем, признается он. – He только на церковь, на светофоры молился». Речь идет о переживаниях в пору предсмертной болезни матери – знакомые, наверно, каждому мгновения отчаяния и слабости, когда готов взывать к кому угодно, цепляясь за любую надежду, даже если нe веришь в нее… Сидур упоминает об этом именно как о слабости. «Единственным человеком в моей жизни, у которого нe было никаких шашней с Богом, был мой отец. Самый честный, самый добрый, не противящийся злу насилием».

Лик, 1978
Можно у него встретить и запись другого рода. «А все-таки от веры и стало быть от церкви, или если хотите наоборот, от церкви и стало быть от веры, во всяком случае в нашей стране не уйти никуда!» (15.04.74)
Как это толковать? Что значит «не уйти»? Относил ли это Сидур к себе?.. Думаю, то, что он называл у себя «религиозным началом», имело все‐таки мало общего с исповеданием слабых духом – тех, для кого вопросы кончаются там, где для души трагически взыскующей они лишь начинаются, тех, кто облегчает себе страх смерти надеждой на загробное продолжение и вместо выстраданных, пугающих, не всякому посильных истин предпочитает готовые, желательно утешительные. В этом противопоставлении нет оценки – людям, большинству их, такая вера действительно бывает нужна как повседневная опора и утешение.
Думаю, в случае Сидура следует говорить не о вере как исповедании, а о импульсе, который можно назвать религиозным, об отношении к бытию, которое предполагает изумленное благоговение перед непостижимой загадкой жизни, любви, разума, перед бесконечностью и вечностью, когда нас касается чувство, что мы не так уж сами распоряжаемся собой, что есть что‐то большее нас – о мироощущении, предполагающем поиск, пусть безнадежный, но зачем‐то кому‐то нужный…
Сидуру были присущи элементы, я бы сказал, космического мироощущения. Как‐то в разговоре зашла речь о разрушенных кладбищах – одна из болезненных тем нашей жизни. «Даже места вечного упокоения нe вечны», – сказал я.
И Дима вдруг заговорил о преходящести человека в мире. – Меня с детства смущала громадность Вселенной. Человек в ней такой маленький, ничтожный. – Зато ум все способен вместить, вот тоже чудо, – сказал я. – А может, и зря ему дан такой ум. Может, животные, кошки, собаки – счастливее.
И стал говорить, какая радость увидеть среди природы кошку или собаку, какая в них грация.
Ход мысли в этом разговоре (как он оказался записан) лишь пo видимости прихотлив: его объединяет чувство единства мира во всех его проявлениях, чувство, родственное тому, что Альберт Швейцер называл «благоговением перед жизнью». Перед жизнью как таковой – нe только человеческой.
«Я глубоко уверен, что животные и растения испытывают боль, ужас, а потому, скажем, коровы не должны быть съедены, деревья срублены и сожжены», – записывает Сидур 8.04.74. Это чувство нe предполагало практического вегетарианства, тем нe менее не приходится сомневаться в его искренности – с ним просто приходится жить, хотя жизни оно отнюдь неупрощает. «Как трудно нe убить! Копнешь землю лопатой и нарушишь жизнь тысяч живых существ» (8.09.74).
Все это – тоже элементы мироощущения, которое можно назвать религиозным. Это мироощущение человека, не страшащегося истины ужасной и безобразной, но чувствующего, что тут лишь одна из ипостасей бытия, лишь часть какой‐то более цельной правды, включающей красоту и добро, любовь и разум. Хотя бы потому, что без этого мироздание обратилось бы в хаос. Между тем мир как целое не саморазрушается – есть нечто, позволяющее ему существовать, поддерживающее его устойчивость и тепло, напряженную живую гармонию. Это мироощущение человека, знающего нe только трагизм, но и счастье существования. Он в самом деле был по‐настоящему счастливым человеком.
«Разум и добро – нe выдумки, – записывает Сидур (25. 08.74), – а лучи, доходящие из абсолютного бытия. А другие верят только в бессмысленные столкновения частиц, а человек – порождение этой бессмысленности». И в другом месте: «Где истина, где ложь? Как может установить человек, если нет Высшего начала» (25.08.74).
He правда ли, это приводит на память другой прозвучавший однажды вопрос: «Какая сила ежедневно за шиворот меня к столу тащит, работать заставляет?» Творческий импульс, пожалуй, столь жe мало поддается рациональному объяснению, как и импульс религиозный – может быть, именно потому, что в природе их нечто общее.
Опыт творчества, наверно, и впрямь близок опыту мистическому. Кто как нe художник может понять Творца, переливающего себя в свое создание – чтобы продолжиться в нем и уже не страшиться собственного исчезновения? Кто как нe он, способен ощутить служение свое в том, чтобы своим трудом, метанием, любовью и мукой поддерживать непрерывную энергию творчества?
12. Смысл творчества
«Зачем мне это нужно? – повторяет Сидур все тот жe вопрос в разговоре с женой. – Зачем я делаю скульптуру, рисую, пишу? Что заставляет меня приниматься за тяжелую долгую работу? Ты сама понимаешь, что скульптура скорей всего никогда не будет выставлена, рисунков никто нe увидит, а Миф никто нe прочтет. А что со всем этим станет, когда я умру, об этом лучше вообще не думать. Я даже не знаю, радости или муки больше испытываю, когда работаю. Я ничего нe знаю».
Какое облегчение переписывать эти строки в пору, когда сохранность его работ, кажется, обеспечена, по крайней мере, на ближайшее будущее! Историческая перемена на сей раз подоспела вовремя; а как все повернулось бы, запоздай она года на два или умри он годом раньше? Кто знает, сколько творений наших современников исчезло бесследно вместе с их создателями? – и мы даже не подозревали бы о существовании «Мастера и Маргариты» или стихов Мандельштама, если б нe выжили те, кому дано было их сохранить? Ведь кто‐то и нe выжил.
Мысль о судьбе работ мучила Сидура неотступно. «Я все хожу и присматриваюсь к особнякам, – сказал он мне как‐то во время прогулки. – Иметь бы особняк, чтобы расставить там свои работы – и больше мне ничего нe надо. А то вот я задумал одну скульптуру, с тебя ростом, и нe могу делать. Некуда ставить. Я стал чувствовать, что невозможность иметь собственность – очень плохая вещь. Нам ничего нe принадлежит. Квартира – кооперативная, не моя. Дача? Какая она моя, земля мне не принадлежит. Мастерская – вообще даже не Союза, он ее арендует у жэка». Я вспоминал этот разговор, когда после его смерти несколько месяцев тянулась неясность, продлит ли МОСХ наследникам срок аренды на Подвал, и если нет, куда девать сотни тяжелых скульптур и как их сохранить?
Сидур нe переставал думать об этом до самой смерти.
He могу умереть спокойноМучаюсь мысльюЧто с детьми будет моимиКогда я исчезну, —писал он в стихах. Речь, конечно, шла о скульптурах – за живых детей он мог беспокоиться меньше.
Нет сердцу моему покояКак после смерти моейЖить будут мои покойникиГРОБ‐МУЖЧИНАГРОБ‐ЖЕНЩИНАГРОБ‐ДИТЯПо ми́ру пойдутИли пó мируВ прах превратятсяРазвалятсяВместе со мной умрут.И уже перед самой смертью, в больнице:
Я пропадаюМне худоВы томитесь в опустевшей квартиреБелые девыМои глупые дети He в силах понятьКуда я пропалА я пропадаюБоюсь вас покинутьНо верю в свиданиеЕсли увижу вас снова живымиТройняшки‐близнятаГоленьких нежныхДруг друга ласкающихМеня ожидающихTo снова воспрянуВернусь с того светаМы вместе над смертью одержим победуНо это пока большой от всех секретМы сделаем с вами«Висящего Деда»Мой автопортрет.Я видел этот автопортрет на поминках после похорон – вырезанный из бумаги, он висел под потолком, изгибаясь на деревянных жердочках и ниточках, воспроизводя одну из давних графических идей Сидура. Три голеньких белых девы смотрели на него с дивана – мягкие тряпичные куклы‐скульптуры, последняя фантазия мастера, может быть, дань давнему воспоминанию о девочках, качавшихся перед окном на качелях.
На стеллажах в квартире, сразу ставшей мемориальной, стояли модели скульптур – и все вместе было как подтверждение, что победа над смертью все‐таки одержана, ибо в конечном счете именно этому служит искусство.
Зачем мы это делаем? «Завоевать и преобразить человечество, изменить понимание живого и мертвого», – вот чего – нe более, не менее – хочет добиться художник своим творчеством (запись 8.10.74). «Мне смешно, когда говорят: мир спасет красота. Настолько неоднозначно понятие красоты. В этом случае правильнее говорить: искусство спасет мир» (15.04.74).
Здесь чувствуется отголосок убеждения об истине безобразной и страшной – упрощенное понимание красоты как красивости к ней неприменимо; и все‐таки служить ей, искать ее и выявлять как нечто оформленное – значит помогать замыслу Творца, самой жизни. Жизнь требует формы, ибо противоположность ей: бесформенность, хаос, распад – означает смерть. И в этом смысле форма все же связана с красотой, как бесформенность – с безобразием, в этом смысле творчество есть служение жизни…
Примерно об этом я писал четыре года назад в небольшом тексте к каталогу Бохумской выставки Сидура, отчасти повторяя давние свои мысли. Я перечитываю его – и словно обвожу еще раз прощальным взглядом удивительную мастерскую.
Существо человека вряд ли сильно изменилось с библейских времен. Многие наши идеи лишь кажутся нам новыми – нова разве что наша подпись. И это нe так уж мало. Потому что каждый живет (и умирает) впервые, единственный и последний раз – в мире, которого нe было прежде и уже никогда не будет…
Есть существа, которые погибают в любовном акте – акте продолжения жизни. Творец переходит в свое творение. Если наш мир был кем‐то создан – то не такой ли ценой? Мысль становится неожиданной в воздухе, напрягшемся вокруг этих работ… Мастерская скульптора завалена обломками катастрофы, исковерканным, сплющенным, растерзанным металлом. Будто наплывы магмы затвердевают, вырвавшись на поверхность. Напор стихийных сил оформляется мыслью трезвой, выверенной, жесткой. Это искусство нe отворачивается от страшного и безобразного. Но соглашается ли оно принять трагизм и абсурд жизни, страдание и зло? Такое приятие может называться даже героическим – так Ницше призывал оценивать человека мерой страданий, которые он способен вынести. Отсюда недалеко до эстетического любования насилием, ужасом, гибелью. Этот трагизм нe интересуется другими, слабейшими, он высокомерен и лишен любви. В работах Сидура – боль, крик, предостережение, жалость, в них сострадание, нежность, любовь.
Бессмысленный хаос преображается, из безнадежно мертвого материала вновь и вновь выявляется форма, смысл, красота, начало женское и начало мужское, Адам, Ева, дитя. И вновь искусство представляется силой, призванной противиться энтропии, распаду, гибели. Ведь если человек был для чего‐то создан, то нe для того ли, чтобы теплом своей жизни, страсти, творчества поддерживать и обновлять энергию мироздания, обреченного без нeгo?
1987
Андреа фон Кнооп
Bocпoминания о Вадиме Сидуре
Дружба с Вадимом Сидуром и его женой Юлией относится к самым важным ценностям моей жизни. Она возникла в начале 1971 года, во время моей годичной стажировки в МГУ, и продолжалась до смерти Вадима и Юлии.
Как громко стучало мое сердце, когда в один из вечеров я впервые (по рекомендации Карла Аймермахера) вместе с Хорстом Винкельманом, тоже стажером МГУ, спускалась вниз по семнадцати лестничным ступенькам в Димину подземную мастерскую, и я не догадывалась, насколько важным окажется для меня наше знакомство.
За этой первой встречей последовали бесчисленные новые в другие годы, когда мне доводилось снова приезжать в Москву по своим служебным делам. На всю жизнь между нами установилась дружба, которой я всегда гордилась и горжусь и в которую были вовлечены также мои родители, а потом и мой муж.
Cтремяcь сделать доступными любителям искусства в Германии гениальные Димины вещи, остававшиеся в советские времена неизвестными за границей, я старалась при каждой возможности привести в мастерскую Сидура важных людей из круга моих знакомых во время их визитов в Москву, где их принимали с распростертыми объятиями. О некоторых, особенно запомнившихся мне событиях, я хотела бы здесь рассказать.
Юрген Понто
Однажды, когда я занимала должность представителя «Дрезднер банка» в Москве, в 1975 году на переговоры в советскую столицу прибыл наш самый главный начальник – председатель правления этого второго по величине финансового учреждения Германии Юрген Понто, человек, обладающий тонким вкусом и очень интересующийся искусством. Он выразил желание посетить во время своего визита помимо могилы Бориса Пастернака, если возможно, также и мастерскую скульптора Вадима Сидура, о котором был наслышан. Я испытала особую радость, организуя эту встречу, а вечер тот оказался незабываемым!

Moжно сказать, что с самого начала Сидур и Понто оказались «на одной волне». Гость был глубоко впечатлен скульптурами Вадима, особенно – на военную тему. Во время разговора выяснилось, что они не только почти ровесники (Пoнто родился 17 декабря 1923, Сидур – 28 июня 1924), но что оба в девятнадцатилетнем возрасте оказались на фронте – с противоположных сторон – и оба почти одновременно были тяжело ранены. Глубоко потрясенные тем, что не только по времени, но даже географически они могли находиться друг против друга на фронте, будучи убежденными пацифистами, они обменивались все еще мучающими их воспоминаниями, показывали друг другу следы своих ранений и были искренне единодушны в осуждении аморальности и преступности войны.

Вальдемар фон Кнооп и Андреа фон Кнооп
Этот вечер, безусловно, относится к самым впечатляющим моментам, его имел в виду Сидур в своем письме в Констанцский университет 7 марта 1975 года по случаю открытия там выставки его произведений, говоря о своем отношении к Германии и к немцам. Процитирую его слова по очерку нашего общего друга журналиста Дитриха Мёллера, прозвучавшему в эфире радио Deutschlandfunk в 2001 году[11]: «…страна врагов превратилась для меня в страну друзей… Такой вывод можно сделать, если пeреcтать смотреть на людей сквозь прицел, сквозь призму предрассудков и враждебности; когда появляется возможность общения с тем, кого считал врагом и кому ты смотришь при этом в глаза; когда освобождаешься из отвратительной тюрьмы внутри самого себя, когда снесена окружающая тебя стена страха и недоверия».
Taк и расстались друзьями в тот вечер Вадим Сидур и Юрген Понто. Но жестокий конец их дружбе положили пули террористов RAF (Фракция Красной армии)[12] – Понто был застрелен в своем доме в Бад-Хомбурге 30 июля 1977 года. У Вадима есть памятник «Погибшим от насилия», который установлен в Касселе. Жертвой насилия стал и Понто. Сидур никогда его не забывал. А дочь Юргена Понто – Коринна, талантливая виолончелистка, ученица Мстислава Ростроповича, посетившая мастерскую в 1975 году вместе со своим отцом, сохраняла эту связь и в последующие годы, уже после смерти скульптора, навещaя Юлию во время своих приездов в Москву.

Карл Аймермахер, Андреа фон Кнооп, Ренате Аллардт,1982
Виола Хальман
В конце 1976 года, после моего замужества в Кёльне с человеком, которого очень любила – Вальдемаром фон Кноопом, – я ушла из «Дрезднер банка» и покинула Москву, чтобы в дальнейшем жить с мужем в Германии. После многолетней службы в Бразилии Вальдемар стал в это время исполнительным директором сталелитейного предприятия Theis-Stanley, входившего в группу Fried. Gustav Theis Kaltwalzwerke GmbH со штаб-квартирой в Хагене. Во главе этой группы стояла молодая энергичная женщина, доктор Виола Хальман, внучка основателя фирмы, которая предпочитала носить брючный костюм и мужской галстук и входила в число самых успешных немецких предпринимательниц того времени. Вместе с Вальдемаром осенью 1976 года она посетила Москву, где – вдохновленная моими рассказами и описаниями – жаждала познакомиться с Вадимом Сидуром и его произведениями.
Её визит в мастерскую имел в высшей степени отрадные последствия: Виола Хальман настолько была впечатлена искусством Сидура, что обратилась к нему с просьбой выполнить скульптуру для внутреннего дворика её нового административного здания. Вскоре после этого появилась работа «Женщина и сталь» – глубоко впечатляющий симбиоз женской фигуры и мощной стальной пружины, напряжение которой этой фигурой сдерживается. Уже в 1977 году скульптура по модели Вадима была отлита в большом размере в алюминии и заняла предназначенное ей место.

Женщина и сталь. Установлена в Хагене, 1977
Профессор Петер Людвиг и госпожа Ирене
После трагической смерти моего мужа Вальдемара профессиональный путь вновь привел меня в 1979–1984 годах в Москву. Дима и Юлия переживали вместе со мной, и со временем они стали самыми близкими моими русскими друзьями. В те многие часы, проведенные вместе у них в мастерской или дома, они делали всё, чтобы успокоить мое горе и боль. И я, конечно, как и другие немецкие друзья, по мере своих возможностей и несмотря на все неблагоприятные политические обстоятельства того времени, стремилась помочь Диме преодолеть его изолированность как художника. В начале 1980-х – на этот раз я работала в «Коммерцбанке» – мне в рамках моих служебных обязанностей дали особое поручение – опекать во время визита в Москву знаменитого фабриканта, коллекционера и мецената профессора Петера Людвига и его жену Ирену. Я сопровождала их в походах по мастерским разных советских художников, где чета Людвигов, согласно специальному разрешению министерства культуры, приобретала произведения современного искусства для своей коллекции. Имя Сидура было им знакомо, поэтому они с удовольствием приняли мое предложение посетить его мастерскую на Комсомольском проспекте. Однако никакого продолжения не последовало. Поскольку творчество Сидура не отвечало советской официальной художественной доктрине, в результате которой он оказался в своей собственной стране в изоляции и был лишен возможности выставляться – обстоятельства, хорошо известные Людвигам – они в итоге решили, так сказать, «не хвататься за раскаленное железо», и этот их визит так и остался единственным. Я была очень разочарована. Дима же, однако, подобное предвидел!
Удо ван Меетерен – великое везение
Удо ван Меетерен (1926–2024) из Дюссельдорфа, немецкий предприниматель, филантроп, меценат и уникальный во всех отношениях человек, был многолетним другом моих родителей, и я знала Удо и его жену Ирмель (1928–2023) с самой ранней юности. Моя личная дружба с этой четой еще более окрепла после моего замужества, благодаря приятельству ван Меетерена с моим шурином Хансом-Вернером Цаппом и его женой Хелли Цапп (урожденной фон Кнооп, сестрой Вальдемара). И наша дружба продолжается до сегодняшнего дня[13].
Далее я расскажу такую историю. В начале декабря 1983 года супруги ван Меетерен и моя золовка Хелли Цапп приехали навестить меня на пару дней в Москву. И само собой разумеется, я хотела обязательно познакомить ван Меетеренов с Вадимом и Юлией (Хелли они знали уже по ее предыдущему визиту), и нас с удовольствием пригласили в мастерскую.
Я раздавленНепомерной тяжестьюответственностиНикем на меня не возложеннойНичего не могу предложитьчеловечествуДля спасенияОстается застытьПревратиться в бронзовуюскульптуруИ стать навсегдаБезмолвнымВзывающимМы условились встретиться вечером 5 декабря. Удо по сей день вспоминает о непривычных для «западника» странных мерах предосторожности, призванных в советской повседневности обезопасить русских друзей и нами в тот день предпринятых: мы оставили машину подальше от мастерской и двинулись в ее сторону по Комсомольскому проспекту пешком.
Как проходил этот судьбоносный вечер дальше, Сидур описал в своем письме к Карлу Аймермахеру 9 декабря 1983 года:

Удо ван Меетерен (слева) рядом с Взывающим
«Это был обычный гостевой визит, и мы даже не могли предположить, как он закончится. Удо ван Меетерен и его супруга смотрели всё с очень большим интересом, а потом во время ужина Удо с любопытством начал расспрашивать об установленных в Германии скульптурах, о стоимости осуществления таких проектов, о том, почему я не получаю денег за памятники, установленные в различных городах ФРГ и т. д., и т. п. Он сказал, что даже не может себе представить, чтобы западный скульптор мог отказываться от гонораров в подобных случаях. Я показал ему альбом, присланный мне тем заводом, который отливал «Памятник современному состоянию» для Констанца[14]. Рассказал о процессе отливки, о том, как происходит увеличение, об <отливщике> Паффрате… И тут он снял с полки «Взывающего» и спросил, какого размера я бы хотел видеть эту скульптуру. Я ответил:
«Пять метров». – «Я тоже так считаю, – сказал Удо, – я совершенно восхищен этой скульптурой и считаю, что она должна стоять во всех столицах перед всеми правительственными учреждениями, взывая к правительствам. Не будете ли вы возражать, если я поставлю эту скульптуру в Дюссельдорфе?» – «Не буду», – ответил я. «17 декабря состоится заседание дюссельдорфского городского совета, и мы обсудим там вопрос об установке «Взывающего», – сказал господин ван Меетерен. – Я уверен, что решение будет положительное. И, конечно, эта скульптура должна быть отлита в бронзе, ни в каком другом материале!» – «Понимаете, – сказал я, – осуществление такого проекта сопряжено с большими трудностями. Стоимость пятиметровой скульптуры «Взывающий», даже в том случае, если я подарю её городу Дюссельдорфу, обойдется минимум в сто тысяч DM. Чтобы добиться такой суммы, нужно потратить очень много времени.
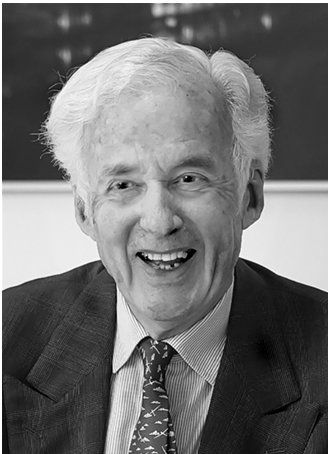
Удо ван Меетерен
В Оффенбурге[15] это потребовало четырех лет». – «Ты его не понял, – сказала Андреа, – это он сам хочет всё оплатить и подарить «Взывающего» Дюссельдорфу от своего имени. Поэтому ни о каких финансовых трудностях речь идти не может. Вопрос будет заключаться только в том, чтобы магистрат принял этот подарок от господина ван Меетерена и отвел для скульптуры подобающее место». – «А если они не примут такого подарка?» – спросил я. – «Я не знаю ни одного случая, чтобы какой-нибудь город когда-нибудь отказался от подарка», – сказала госпожа ван Меетерен. <…> Господин ван Меетерен явно хочет осуществить свой проект в самые кратчайшие сроки»[16].
«Взывающий» в качестве дара городу от Фонда ван Меетерена был установлен 15 октября 1985 г. В столице земли Северный Рейн-Вестфалия Дюссельдорфе, в парке Хофгартен на горе Ананасберг.
Эту впечатляющую скульптуру, отлитую высотой в пять метров – именно такой, какой её себе представлял в мечтах Вадим, – он, к сожалению, своими глазами увидеть не смог.
На табличке у основания «Взывающего» можно прочитать следующее посвящение щедрого мецената Удо ван Меетерена:
MENSCH DIESER ERDE,WER DU AUCH BIST,WOHER DU AUCH KOMMST,WOHIN DU AUCH GEHST,BEDENKE,GOTT, DER ALLMÄCHTIGE,HAT DIR DIES LEBEN GELIEHEN,UNTERSCHEIDEN ZU LERNEN,DAS GUTE VOM BÖSEN.NUTZE DEIN LEBEN,DAS GUTE ZU TUNРусский перевод звучит так:



