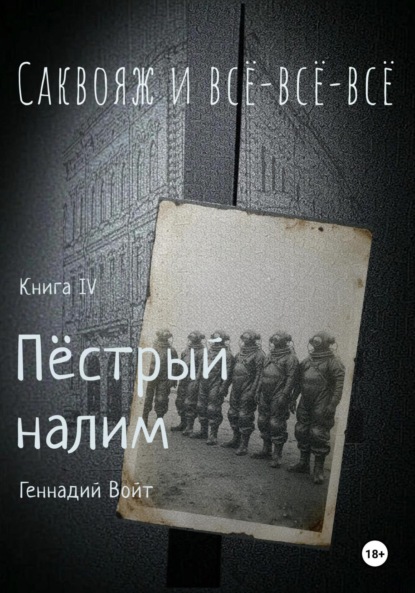
Полная версия:
Саквояж и всё-всё-всё. Пёстрый налим
София открыла нам сама. В крошечной прихожей, на стене, висела старая карта Петербурга, испещрённая цветными линиями – маршрутами прогулок, как я догадался. Рядом – несколько лёгких, почти прозрачных акварельных этюдов: мокрые ступени Исаакия; горбатый мостик над тусклой водой канала Грибоедова; колоннада Казанского собора, тающая в утренней дымке.
– Проходите, – улыбнулась София. – Не стесняйтесь, чай уже на столе.
Большие окна гостиной выходили в тихий двор-колодец. На широких подоконниках теснились горшки с цветами и колючими, похожими на стражей, кактусами. Вдоль одной стены, от пола до самого потолка, – стеллажи с книгами. У противоположной – мольберт с незаконченной акварелью: судя по узнаваемым очертаниям, набросок Байкала.
– Рисую по фотографии, – пояснила София, перехватив мой взгляд. – Мечтаю там побывать.
В углу был накрыт небольшой круглый стол. Льняная скатерть, пузатый фарфоровый чайник, чашки и вазочка с домашним печеньем.
– Угощайтесь, – с гордостью сказала София. – Овсяное, с кардамоном. Бабушкин рецепт.
Мы расселись. Гриша, по своему обыкновению, водрузил перед собой ноутбук.
– Итак, – начала София, разливая по чашкам дымящийся чай, – что мы имеем? Записку деда. Намёк на некую находку, которая «считалась навсегда утерянной». И туманную фразу о «событиях начала века».
– И Байкал, – добавил я.
– И этот Стальский, – подхватил Гриша, открывая крышку ноутбука. – Я кое-что на него нарыл. Негусто, но пища для размышлений имеется.
Он развернул к нам экран.
– Павел Игнатьевич Стальский, – начал читать Гриша, – член ЦК КПСС с пятьдесят седьмого по шестьдесят пятый год. Курировал научные исследования и экспедиции, с особым интересом к археологии и геологии. В шестьдесят пятом внезапно ушёл на повышение. Без публичных объяснений. Умер в девяносто пятом.
– Коротко для такой шишки, – заметил я.
– Иногда самые важные фигуры оставляют самый незаметный след, – усмехнулся Гриша. – Особенно если кто-то этот след потом старательно затирал.
София задумчиво помешивала ложечкой чай.
– Знаете, – тихо сказала она, – начало века, утерянная находка, Байкал…
– Золото Колчака! – выпалил я, и тут же смутился под насмешливым взглядом Гриши. – А что? Логично. Белая армия отступала через Сибирь, часть золотого запаса вполне могли спрятать или утопить.
– Или утащить в пещеру снежные люди, – невозмутимо добавил Гриша. Мы рассмеялись.
– На самом деле, – сказала София, отсмеявшись, – идея не так уж и безумна. Легенда о золотом эшелоне до сих пор жива. Говорят, около ста тонн золота Российской империи просто исчезло.
– Сто тонн не могут «просто исчезнуть», – скептически возразил Гриша. – Это не иголка в стоге сена.
– Вот именно, – София наклонилась к нам, и глаза её блеснули. – Их не испарили. Их спрятали. Или затопили. И дед… дед мог наткнуться на след.
Повисла тишина, густая, как свежезаваренный чай.
– Ты сам подумай, – вдруг обратилась София к Грише. – Экспедиция внезапно свёрнута. Руководитель, мой дед, пропадает без вести. Дача ограблена и едва не сожжена. А потом высокопоставленный чиновник из ЦК лично приезжает запугивать вдову. Не многовато ли драмы для рядовой геологической разведки?
Гриша смотрел на неё с неподдельным уважением.
– Что ж, – произнёс он наконец. – Допустим. Допустим, твой дед действительно нашёл золото. Или, по крайней мере, место, где оно может быть. И кто-то очень влиятельный решил это знание… приватизировать.
– И избавился от деда, – тихо закончила София.
– Это всё догадки, – сказал я после паузы.
– Значит, нам нужны доказательства, – решительно ответила София. – Надо узнать всё об этой экспедиции. Что стало с остальными участниками?
– Попробую, – кивнул Гриша. – Есть у меня один человечек в архивах. Ничего не обещаю, но…
– Попробуй, – попросила София. – А я снова поговорю с бабушкой. Может, она вспомнит ещё что-нибудь. Фамилию, деталь…
– А я, – подвёл итог я, протягивая руку к вазочке, – помогу вам съесть это восхитительное печенье.
София улыбнулась – впервые за вечер по-настоящему тепло и открыто.
***
Через неделю за окнами петербургская хлябь сменилась ледяным дождём. Капли барабанили по металлическому карнизу, но в комнате Софии от этого становилось только уютнее.
Гриша явился последним – мокрый, взъерошенный, но с лихорадочным блеском в глазах.
– Есть! – воскликнул он с порога, стряхивая капли с волос. – Нашёл!
Он прошёл в комнату, на ходу извлекая из рюкзака пухлую папку.
– Мой архивариус рисковал головой, – сообщил он, выкладывая на стол бумаги. – Документы формально открыты, но на деле лежат под таким сукном, что пришлось применять весь арсенал: коньяк, шоколад и лесть.
София, улыбаясь, налила ему чаю.
– Итак, – начал Гриша, сделав большой глоток. – Экспедиция действительно была. И называлась… – он кашлянул, чтобы скрыть усмешку, – «Пёстрый налим». Официальная цель: геологические исследования дна Байкала и испытание новой глубоководной аппаратуры.
Он подвинул к нам отсканированный лист с казённой шапкой.
– Приказ о формировании. Февраль шестьдесят второго. Руководитель – Зор-Зенин Александр Николаевич. В составе ещё шестеро:
геологи Синевский и Лунгинов;
гидролог Шумилов;
инженер по оборудованию Светозар;
водолаз Богданович;
врач Зиминский.
– Кто-нибудь из них жив? – спросила София.
– Неизвестно. Пока не пробивал, – пожал плечами Гриша. – Он перевернул страницу. – Экспедиция стартовала первого апреля шестьдесят второго. База – посёлок Листвянка. Что примечательно, во времена Колчака он назывался селом Лиственичное. Это на западном берегу, у самого истока Ангары. А дальше… дальше всё обрывается. Четырнадцатого апреля руководитель экспедиции, Зор-Зенин, пропал без вести во время погружения. Поиски ничего не дали. Экспедицию свернули.
– И всё? – разочарованно протянул я.
– Не всё, – Гриша хитро прищурился. – Есть вишенка на торте. На полях последнего отчёта, карандашом, нацарапаны координаты. Кто-то пытался их стереть, но писавший давил на карандаш так сильно, что на бумаге остались вдавленные следы. Я смог их восстановить.
Он показал нам лист. В углу виднелись едва различимые цифры: 51. 850473, 104. 922621.
– Я проверил. Это точка в пяти километрах от Листвянки, в открытом Байкале. Глубина там… приличная. Предположительно, место последнего погружения.
София задумчиво теребила прядь волос.
– Что-то ещё?
– Самое главное, – Гриша подался вперёд. – Приказ о немедленном засекречивании всех материалов экспедиции подписан лично… – он сделал эффектную паузу, – Павлом Игнатьевичем Стальским.
Мы переглянулись. Круг замкнулся.
София встала и подошла к окну. Несколько секунд молча смотрела на струи дождя. Потом резко обернулась.
– Я еду на Байкал.
– Это безумие, – покачал головой Гриша. – Соня, прошло шестьдесят лет. Что ты там найдёшь?
– Не знаю. Может, и ничего, – она пожала плечами. – Но я должна. Я хочу знать, что случилось с моим дедом.
Она посмотрела на нас.
– Я не прошу вас ехать. Это моё дело, и…
– Перестань, – перебил я её. – Конечно, мы едем.
– Мы? – Гриша вскинул на меня брови. – Когда это «мы» успели договориться?
– А тебя кто-то спрашивает? – усмехнулся я. – Не бросишь же ты двух дилетантов наедине с потенциальным золотым запасом империи? Свою долю не получишь.
– Мы ещё не знаем, что искал дед, – мягко поправила София.
– Но согласись, звучит куда заманчивее, чем «геологические исследования», – подмигнул я ей.
Гриша посмотрел на нас с видом мученика, осознавшего тщетность сопротивления.
– Сумасшедшие, – выдохнул он. – Но… – он тяжело вздохнул. – Раз уж вы твёрдо решили совершить научный подвиг, я прослежу, чтобы вы сделали это с соблюдением всех методик. У меня как раз отпуск через две недели.
София рассмеялась и крепко, по-сестрински, обняла нас обоих.
– Я знала! Я знала, что вы не откажетесь! Я тоже возьму отпуск. Скажу, что еду на пленэр.
– А я, – потянулся я, – просто возьму с собой ноутбук. Моему редактору, в сущности, всё равно, из какой точки земного шара я присылаю ему статьи.
***
Москва. 1962 год. Здание на Старой площади, похожее на гигантский, вросший в землю несгораемый шкаф, давило на мостовую длинными серыми тенями и казалось сумрачным даже в самые ясные дни. В кабинете на шестом этаже, за массивным дубовым столом, сидел Павел Игнатьевич Стальский – человек, чьё имя не мелькало в газетах, но вызывало нервный тик даже у самых закалённых партаппаратчиков.
Стальский неторопливо перебирал бумаги. Его крупные, будто отлитые из чугуна для ведомственного бюста черты лица оставались неподвижными, лишь в уголках губ притаилась кривая усмешка. В дверь постучали.
– Входите, – произнёс Стальский. Голос, не громче шороха переворачиваемой страницы в пустом архиве, нарушил тишину кабинета.
Вошёл помощник – мужчина лет сорока, с внимательным взглядом и аккуратно зачёсанными назад волосами.
– Александр Николаевич Зор-Зенин ждёт в приёмной, Павел Игнатьевич.
– Пусть подождёт ещё пять минут, – Стальский взглянул на часы. – И принесите мне чай. Без сахара.
Помощник кивнул и бесшумно исчез за дверью. Стальский откинулся в кресле. Ему нравилось заставлять людей ждать – даже таких известных учёных, как Зор-Зенин. Особенно таких. Каждая минута, проведённая ими в приёмной, недвусмысленно напоминала, кто в этом доме – и в этой стране – хозяин.
Стальский подошёл к окну. С шестого этажа открывался вид на часть Кремлёвской стены и купола храмов. Он усмехнулся. Храмы – не более чем реликты ушедшей эпохи, бессильные истуканы, не имеющие власти. Теперь здесь царила другая религия – власть. И он, Павел Игнатьевич, был одним из её высших жрецов.
В свои пятьдесят четыре года Стальский достиг многого. Член Политбюро, куратор нескольких закрытых проектов, человек, чьё слово могло решить судьбу любого научного института. Высокий, с идеальной осанкой, с аккуратно зачёсанными назад седеющими волосами, он выглядел как классический партийный функционер. Но за безупречным фасадом скрывался ум, холодный и острый, как скальпель хирурга, и алчность, бездонная, как байкальская впадина.
Идеология? Стальский внутренне усмехался каждый раз, когда приходилось произносить пламенные речи о коммунистическом будущем. Для него марксизм-ленинизм был лишь удобным инструментом, набором фраз, которые открывали нужные двери и позволяли управлять людьми. Идеалы – пыль на его ботинках, а единственная настоящая религия – неограниченная власть.
Помощник вернулся с чаем. Стальский сделал глоток, поморщился – обжигающе горячий – и распорядился:
– Теперь пригласите Зор-Зенина.
***
Александр Николаевич Зор-Зенин нервно поправил галстук, прежде чем войти в кабинет. Он не понимал, почему его вызвал сам Стальский. Обычно вопросы финансирования экспедиций решались на уровне министерства.
– Разрешите? – Зор-Зенин приоткрыл дверь.
– Входите, Александр Николаевич, входите, – Стальский поднялся из-за стола, с преувеличенным радушием протягивая руку. – Рад видеть гордость советской геологии!
Зор-Зенин смутился. Он не привык к такой лести от высокопоставленных чиновников.
– Садитесь, – Стальский указал на кресло. – Чай, кофе… коньячку?
– Спасибо, ничего не нужно, – Зор-Зенин осторожно опустился в кресло.
Стальский изучал его взглядом коллекционера, приценивающегося к экспонату. Перед ним сидел человек, известный своими исследованиями глубинных структур земной коры, автор десятков научных работ, уважаемый в академических кругах. Сухощавый, с живыми умными глазами и мягкой улыбкой. Не авантюрист, а учёный до мозга костей. И это было хорошо – именно такой человек и нужен для проекта. Тот, кому поверят. Тот, чьи мотивы не будут подвергаться сомнению.
– Я читал вашу работу о структуре байкальского дна, – начал Стальский, хотя, разумеется, и не думал тратить на это время – хватило и краткой справки, подготовленной помощниками. – Очень интересно. Очень перспективно, скажу я вам.
– Благодарю, – Зор-Зенин слегка наклонил голову. – Но это лишь предварительное исследование. Для серьёзных выводов нужна полноценная экспедиция. Я как раз подал заявку в министерство…
– Я знаю, – перебил его Стальский. – Именно поэтому вы здесь.
Он выдержал паузу, давая учёному осознать значимость момента.
– Ваша работа заинтересовала… определённые круги в руководстве страны. Мы считаем, что исследование Байкала имеет стратегическое значение. И готовы предоставить вам не просто финансирование, а особый статус. Экспедиция под кодовым названием «Пёстрый налим».
Зор-Зенин недоумённо моргнул.
– «Пёстрый налим»? Почему такое название?
Стальский усмехнулся:
– А почему нет? Налим – рыба донная, уважаемый Александр Николаевич, а вы, насколько я понимаю, как раз дно и собираетесь изучать. А «пёстрый»… – он помедлил, – назовём это данью уважения разнообразию ваших научных интересов. И наших.
– Что конкретно вам нужно от меня? – осторожно спросил Зор-Зенин.
Стальский поднялся и прошёлся по кабинету.
– Официально – всё то, что вы уже планировали: геологические исследования, картографирование дна, изучение глубинных процессов. Плюс тестирование новых образцов глубоководного оборудования, разработанного нашими инженерами. – Он остановился у окна, повернулся к учёному. – Вам будут предоставлены все необходимые ресурсы. Лучшие специалисты, самая современная техника. Вы сможете сделать прорыв в науке. Да.
Предложение было заманчивым. Всю жизнь он мечтал о такой возможности – неограниченное финансирование, полная поддержка государства…
– А что неофициально? – осторожно спросил он.
Стальский многозначительно посмотрел ему в глаза.
– Скажем так, – он вернулся к столу, – помимо научных изысканий, нас интересуют и некоторые… исторические аспекты.
– Исторические? – удивился Зор-Зенин. – Я геолог, а не историк.
– Речь идёт об истории, запечатлённой в земле, – Стальский заговорил тише, хотя в кабинете они были одни. – Вы слышали о золоте Колчака?
Зор-Зенин напрягся. Конечно, он слышал эти легенды. Якобы часть золотого запаса Российской империи, захваченного адмиралом Колчаком во время Гражданской войны, была спрятана где-то в районе Байкала перед тем, как белогвардейцы отступили. Десятки экспедиций, официальных и неофициальных, безуспешно искали это золото.
– Это мифы, – пожал плечами учёный. – Нет никаких достоверных источников…
– У нас есть, – прервал его Стальский. Он открыл сейф, достал тонкую папку и положил перед Зор-Зениным. – Прочтите.
В папке было несколько пожелтевших листов – выдержки из дневника некоего поручика Савина, адъютанта одного из офицеров колчаковской армии. Записи, датированные октябрём 1919 года, содержали сведения о столкновении их отряда с группой красноармейцев, перевозивших обоз с ценностями.
«24 октября 1919 года. Отбили у красных обоз с золотом в 30 верстах от Иркутска. Подразделение поручика Ларионова, устроив засаду, атаковало внезапно, с тыла. Однако в ходе боя части красноармейцев удалось скрыться на одной из подвод с 10 ящиками золота. Поручик Деверин с казаками пытался преследовать, но след потерялся возле села Лиственичное…»
Ниже следовала запись от 30 декабря:
«По расспросам местных жителей выяснилось, что вечером 25-го они видели подводу с несколькими вооружёнными людьми, ехавшую в сторону озера по тропе, что идёт мимо большой скалы, напоминающей форму медвежьей головы. Эта тропа достаточно широка для телеги и подходит вплотную к воде в нескольких местах. Примерно в трёх верстах от Лиственичного есть такое место – небольшая бухта под скалой…»
И последняя запись, от 9 ноября:
«Поручик Деверин докладывает, что никаких следов золота не обнаружено. Видимо, красные доставили ящики к самой воде. Есть предположение, что они либо намеренно утопили золото, чтобы оно не досталось нам, либо, что более вероятно, при попытке погрузить ящики на лодку произошёл несчастный случай, и груз оказался на дне. Глубина там значительная. Без специального оборудования достать невозможно…»
Зор-Зенин поднял глаза на Стальского.
– В феврале 1920-го Колчак был уже мёртв, а его армия разбита, – сказал Стальский. – Золото так и осталось на дне. Я думаю, координаты этого места можно установить довольно точно по описаниям поручика Савина. Скала в форме медвежьей головы, бухта… Это место всё ещё должно существовать.
Зор-Зенин с сомнением покачал головой:
– Это может быть подделка. И потом, столько лет прошло…
– Именно это нам и предстоит выяснить, – Стальский забрал папку. – Я не прошу вас верить легендам, Александр Николаевич. Я прошу вас провести научное исследование, а заодно… проверить один исторический факт.
Зор-Зенин молчал, обдумывая предложение. Стальский терпеливо ждал. Он знал, что учёный согласится. Ради возможности провести полноценную экспедицию, ради научного прорыва.
– Хорошо, – наконец сказал Зор-Зенин. – Я согласен возглавить экспедицию. Но мне нужна полная академическая свобода в выборе методов исследования.
– Разумеется, – кивнул Стальский. – Подбирайте команду. Только учтите – все участники должны пройти специальную проверку. Проект «Пёстрый налим» имеет гриф секретности.
Когда учёный ушёл, Стальский долго стоял у окна, глядя на Кремль. Он не верил в коммунизм, он верил в золото. Верил в его холодную, абсолютную власть, в его способность открывать любые двери и затыкать любые рты. Если экспедиция действительно найдёт сокровища Колчака, он, Павел Игнатьевич, станет по-настоящему независимым. Сможет обеспечить себе и будущее за пределами этой системы, и власть внутри неё.
Стальский никому не рассказывал о своём настоящем плане. Даже Зор-Зенину он показал лишь малую часть имеющихся документов. Всю партитуру этого грандиозного обмана знал только он сам. И намеревался сохранить эту тайну.
***
Институт геологических исследований напоминал растревоженный улей. Весть о том, что многострадальная экспедиция Зор-Зенина получила «добро» на самом высоком уровне, разнеслась по гулким коридорам с быстротой сквозняка. Теперь все, от лаборантов до седовласых академиков, вдруг прониклись жгучим интересом к глубинным структурам байкальского дна и хотели попасть в команду.
Но Александр Николаевич имел на сей счёт своё, весьма твёрдое мнение. Он сидел в заваленном бумагами кабинете и, отгородившись от институтской суеты, просматривал личные дела кандидатов, отсеивая зёрна от плевел.
В дверь постучали.
– Войдите!
На пороге, словно сошедший с плаката «Советский инженер – гордость страны! », появился молодой человек в очках. Борис Светозар, гений и фанатик глубоководной аппаратуры.
– Извините за беспокойство, Александр Николаевич, – начал он, нервно поправляя съехавшую на нос оправу. – Я слышал об экспедиции на Байкал и…
– И хотите в ней участвовать, – закончил за него Зор-Зенин, отрываясь от бумаг. – Садитесь, Борис. Я как раз о вас думал.
Лицо Светозара расплылось в такой счастливой улыбке, что стёкла очков на мгновение запотели. Он осторожно опустился на краешек стула.
– Ваше новое устройство для подводной съёмки, – Зор-Зенин взял со стола чертёж. – Оно и правда может работать на глубине до двухсот метров?
– Теоретически, даже до трёхсот! – выпалил инженер, его голос дрожал от энтузиазма. – Мы провели испытания в барокамере. Но нужны полевые тесты, Александр Николаевич… в реальных условиях.
– Которые мы и проведём на Байкале, – Зор-Зенин тепло улыбнулся. – Добро пожаловать в команду, Борис. Только учтите – экспедиция имеет гриф секретности. Никаких разговоров с посторонними.
– Конечно! – Светозар вскочил, едва не опрокинув стул. – Спасибо, Александр Николаевич! Вы не пожалеете!
Когда восторженный инженер, пятясь, покинул кабинет, Зор-Зенин вернулся к документам. Итак, Светозар – третий. Ранее он уже отобрал двух геологов: Синевского, молчаливого специалиста по тектоническим разломам, и Лунгинова, дотошного эксперта по донным отложениям. Теперь оставалось найти гидролога, опытного водолаза и врача.
На роль гидролога у него уже был кандидат – Владимир Шумилов, старый коллега, с которым они вместе съели не один пуд соли на Каспии. А вот с остальными…
Зор-Зенин откинулся в кресле и устало потёр глаза. Всё происходило слишком быстро. Ещё вчера его проект экспедиции, казалось, навсегда увяз в министерских согласованиях, а сегодня – неограниченное финансирование, карт-бланш на исследования, лучшие специалисты. И всё из-за этой полумифической истории о золоте Колчака.
Он не верил в неё. Или, по крайней мере, убеждал себя в этом. Зор-Зенин был учёным, а не кладоискателем. Его интересовала геология древнейшего озера планеты, а не легенды о призрачных сокровищах. Но где-то в самой глубине души, там, где логика уступала место почти детскому любопытству, шевелилась крамольная мысль: «А что, если?»
Резкий телефонный звонок вырвал его из раздумий.
– Зор-Зенин слушает.
– Александр Николаевич, – раздался в трубке знакомый голос институтского секретаря, – к вам посетитель. Говорит, что от товарища Стальского.
Зор-Зенин напрягся.
– Пусть войдёт.
Через минуту в кабинет вошёл крепкий, коренастый мужчина в штатском. Костюм сидел на нём ладно, но было в его фигуре что-то такое, что выдавало человека не кабинетного. Лицо квадратное, волевое, глаза – холодные, оценивающие.
– Майор Игнатов, – представился он, коротко блеснув удостоверением. – Комитет государственной безопасности. Прикомандирован к вашей экспедиции.
– В качестве кого? – Зор-Зенин нахмурился, чувствуя, как его научная вотчина сужается под этим стальным взглядом.
– В качестве контролёра за соблюдением режима секретности, – без тени улыбки ответил майор. – Официально же… можете представить меня как завхоза экспедиции.
– И как я объясню остальным участникам ваше присутствие? – спросил Зор-Зенин. – Они все – научные сотрудники, не привыкшие к…
– К надзору? – усмехнулся Игнатов. – Поверьте, они не заметят. Я умею быть… незаметным.
Он сел, не дожидаясь приглашения, положив на колени потёртый портфель.
– Кстати, о составе. Мне сообщили, что вы всё ещё ищете водолаза и врача.
– Да, – кивнул Зор-Зенин. – Пока не нашёл подходящих кандидатов.
– Позвольте помочь, – майор извлёк из портфеля две тонкие папки. – Водолаз Богданович Михаил Степанович. Служил на флоте, затем в аварийно-спасательной службе. Опыт глубоководных погружений в экстремальных условиях. Владеет несколькими типами водолазного снаряжения.
Он протянул первую папку. Зор-Зенин открыл её. С фотографии смотрел мужчина лет тридцати с внимательным, уверенным взглядом. Послужной список впечатлял.
– А второй? – спросил учёный, принимая вторую папку.
– Врач Зиминский Павел Георгиевич. Хирург. Специализируется на последствиях декомпрессионной болезни и других специфических водолазных травмах. Работал в НИИ морской медицины. Имеет допуск к секретным проектам.
Зор-Зенин просмотрел документы. Всё было безупречно – идеальные кандидаты. Слишком идеальные.
– Стальский их уже утвердил? – догадался он.
– Скажем так, настоятельно рекомендовал, – майор едва заметно улыбнулся. – Но формально решение за вами, как за руководителем экспедиции.
Зор-Зенин понимал, что выбора у него нет. Стальский не просто контролировал, он формировал экспедицию под свои, до конца не ясные цели, расставляя на ключевые позиции своих людей. Что ж, пусть будет так. Главное, чтобы они не мешали научной работе.
– Хорошо, – кивнул он. – Включаю их в состав. Надеюсь, они оправдают рекомендации.
– Не сомневайтесь, – заверил Игнатов. – И ещё один момент, Александр Николаевич. Ни Богданович, ни Зиминский, ни остальные участники не должны знать о… настоящей цели. Для них это исключительно научный проект и испытание нового оборудования. Только вы и я посвящены в детали.
– Понятно, – Зор-Зенин криво усмехнулся. – Значит, будем играть в двойную игру.
– Это не игра, Александр Николаевич, – серьёзно сказал майор. – Это государственная тайна. И от того, насколько хорошо мы её сохраним, зависит успех всей операции.
Когда Игнатов ушёл, Зор-Зенин долго сидел, глядя на папки с личными делами «рекомендованных» специалистов. Он понимал, что только что ступил на минное поле. И дороги назад уже нет.
***
Прошло две недели. Команда была сформирована, оборудование – подготовлено к отправке. Особое внимание уделялось новым глубоководным скафандрам – массивным конструкциям, созданным специально для работы в ледяных водах Байкала на глубинах до четырёхсот метров.
Зор-Зенин стоял в лаборатории, наблюдая, как Борис Светозар, с горящими глазами фанатика, вносит последние корректировки.



