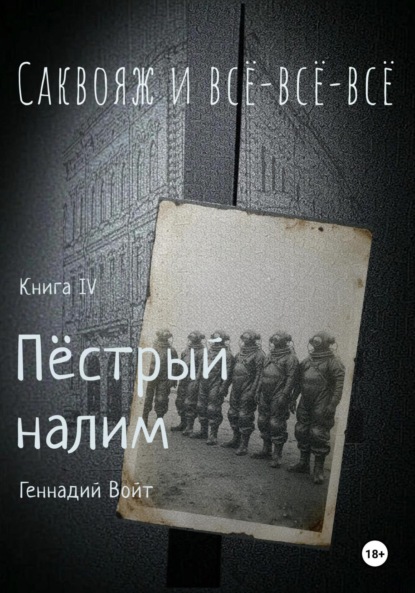
Полная версия:
Саквояж и всё-всё-всё. Пёстрый налим
Наконец образовался просвет. Узкий, подвода едва протиснется, но проехать можно. Люди повалились на землю, обессиленные, хватая ртами воздух.
– Передышка пять минут, – прохрипел Ерофей Петрович, вытирая пот рукавом. – Перекурить – в рукав. И трогаем.
Он глянул вверх. В редком прогале между кронами уже бледнела ночная синь. Близился рассвет.
***
Григорьев, крякнув, отошёл к обочине – натёрла проклятая портянка. Присел на стылый валун, стянул сапог, с наслаждением пошевелил затёкшими пальцами.
Тенью вырос рядом Петренко. Примостился, достал кисет, принялся сноровисто, но с едва заметной дрожью в пальцах – и дрожь эта была не от ночного холода – сворачивать цигарку.
– Что тебе наш комиссар наплёл? – голос Петренко был сухим шелестом, едва слышным за стрёкотом кузнечиков. – Про нефть, кровь революции?
Григорьев молча кивнул, настороженно покосившись на Белова, который темнел недвижной глыбой в десяти шагах, отдавая тихие распоряжения.
– Брешет, – сплюнул Петренко табачную крошку. – Всё брешет. Мужикам – про соль. Тебе – про нефть. А там золото. Понимаешь? Золото.
Григорьев вздрогнул.
– Откуда знаешь?
– Я ж не слепой, – хмыкнул Петренко. – В Омске, помнишь, к погрузке и близко не подпустили? Тот хлыщ в кожанке, с Маузером на боку: «Не подходить! Стоять в стороне! »
Петренко придвинулся, заговорщицки понизив голос:
– И вес. Ты сам подумай: разве соль столько тянет? А нефть и вовсе вода водой. Я же, когда ящик волок, углом его приложил. Звякнуло, брат. Так только оно звякает. Золото. Я этот звук знаю.
В темноте глаза Петренко по-волчьи блеснули зелёным огнём. Григорьев поёжился.
– Ну и что с того? Нам велено доставить – мы доставим.
– Эх ты… верный пёс, – с горькой усмешкой покачал головой Петренко. – А что она тебе дала, революция-матушка? Пайку, портянки да вшивую шинель? Мы за неё сколько крови пролили?
Он оглянулся и наклонился к самому уху Григорьева:
– Слыхал про Харбин? Город такой есть, в Маньчжурии. Наши там живут – и никакой тебе коммуны. Домик. Садик. Яблони цветут, пчёлы гудят… А вечером сидишь на веранде, чай пьёшь. По-человечески. Как господа жили, так и мы зажить можем.
Григорьев нервно облизал вмиг пересохшие губы.
– Ты к чему клонишь?
– К тому, что свою долю мы заслужили, – в голосе Петренко зазвучала сталь. – Отдали ей лучшие годы. Пора и для себя пожить.
– С ума сошёл! – побледнев, выдохнул Григорьев. – Это ж стенка…
– Тише ты! – зашипел Петренко, цепко хватая его за рукав. – Кто узнает? Всего-то по слиточку. Революция от этого не обеднеет.
– Да как его взять? – Григорьев дёрнул подбородком в сторону обоза. – Там ящики-то… печать, охрана…
Петренко хитро сощурился.
– А вот это, друг, моя забота. На третьей подводе, крайний справа ящик, видишь? – он едва заметно кивнул в темень. – Доска у него слабая, я ещё при погрузке заприметил. Чуть поддеть ломиком – и наш.
Григорьев прерывисто вздохнул.
– А если заметят?
– Не заметят, – отрезал Петренко. – При разгрузке такая суматоха поднимется… Я своё дело сделаю, ты только на стрёме постой, прикрой, если что.
Он наконец прикурил, и пляшущий огонёк на миг выхватил из мрака его обветренное, изрезанное морщинами лицо.
– Ну как? – спросил он, выпуская в стылый воздух колечко дыма. – Со мной?
Григорьев молчал, бездумно теребя медную пуговицу на шинели. Посмотрел на бездонное, усыпанное колкой звёздной пылью небо, на чёрные силуэты сосен. И, сам от себя не ожидая, коротко кивнул.
– С тобой.
– Вот и славно, – Петренко с неожиданной силой хлопнул его по плечу. – Два слитка – и мы с тобой снова люди. Новую жизнь начнём.
– А вдруг там не золото? – уцепился Григорьев за последнюю соломинку сомнения. – Вдруг…
– Золото, – твёрдо перебил Петренко. – Я этот звон ни с чем не спутаю. Ящик тот я нарочно с краю поставил, чтоб сподручнее было. Ты главное по сторонам гляди, когда я знак подам. И не дрейфь. Прорвёмся.
Он затушил цигарку о каблук, растёр окурок в пыль. И кривая усмешка тронула его губы.
– А знаешь, что самое занимательное? – прошептал он. – В Омске, когда грузили, я ухватил обрывок разговора. Тот самый, в кожанке, своему помощнику: «Один такой слиток, – говорит, – и полк можно год кормить». Представляешь масштаб?
У Григорьева от волнения пересохло во рту. Он почти физически ощутил в ладонях холодную, невыносимую тяжесть слитка, и сердце гулко ударило в рёбра.
– По местам! – донёсся строгий шёпот Белова, и оба вздрогнули. – Двинули! Скоро рассвет!
Петренко поднялся, отряхнул с коленей пепел.
– Не забудь: третья подвода, ящик с краю. И молчи.
Он пошёл к своему месту, привычно сутулясь, растворяясь в полумраке. А Григорьев всё сидел на корточках, мертвенно вцепившись в сапог, и не мог подняться. Что-то внутри него хрустнуло и надломилось, как пересохшая ветка под ногой. «Харбин… домик с садом…» – стучало в висках. И мысль эта уже не казалась предательством. Нет. Она казалась… справедливостью.
***
Скрип колёс и похрапывание лошадей нарушали сонную тишину тайги. Обоз медленно вползал в лесную теснину, когда справа, из густого ельника, ударил хлёсткий, как щелчок бича, звук – выстрел. Красноармеец, шедший впереди Белова, коротко ахнул и мешком повалился набок, глухо стукнувшись головой о колесо подводы.
– К бою! – выкрикнул Белов, и его голос утонул в грохоте.
Тайга огрызнулась десятком злых огоньков. Между деревьями замелькали неясные тени, кто-то закричал долго, по-звериному. Лошади испуганно заржали, вздымаясь на дыбы. Ерофей Петрович, упав на колено за телегой, уже выцеливал.
– Слева обходят! – надсадно крикнул Мохнач, с лязгом передёргивая затвор.
Пуля с визгом впилась в дощатый борт в вершке от руки Белова, выбив ворох щепок. Он грязно выругался и перекатился под днище. Отсюда, из-под колёс, были видны лишь сапоги и лапти, мельтешившие в подлеске. Выстрелил наугад – вскрик.
– Васильев, правый фланг! – прохрипел Белов.
Тишина в ответ. Выглянув на мгновение, он увидел перекошенное, уже чужое лицо Васильева – тот зажимал ладонью шею, из-под пальцев била тёмная, густая кровь. Рухнул навзничь, неловко, как сломанная кукла.
На одной из подвод заголосил мужик-возница:
– Пропали, братцы! Пропа-а-али!
– Заткнись! – рыкнул Белов, торопливо перезаряжая барабан нагана. – Григорьев, где тебя носит? !
– Здесь я! – донеслось откуда-то сзади, и тут же невдалеке гулко ухнуло – граната. Земля содрогнулась, в лицо пахнуло гарью и горячим воздухом. Лошадь в головной упряжке обезумела, рванулась вперёд, тараня кустарник и выворачивая телегу набок. Обитые железом ящики с глухим стуком посыпались в грязь.
Из мрака вынырнула широкая фигура с обрезом наперевес, с лицом, замотанным тряпкой. Белов выстрелил почти в упор. Бандит отшатнулся, схватился за живот, но устоял на ногах. Второй выстрел – и тот тяжело завалился набок.
– Товарищ командир, отходим! – заорал Петренко, отстреливаясь от теней, наседавших справа. – В клещи берут!
Белов огляделся – западня. Впереди и справа – огонь, слева – непролазная чаща. Только назад. Он высадил последние две пули в сторону мелькающих у деревьев фигур.
– Отходим к третьей подводе! – скомандовал он. – Григорьев, прикрывай!
Сзади страшно захрипела лошадь, потом раздался мокрый, тяжёлый стук. Мужик-возница с первой подводы, тот, что голосил, заорал дурным голосом и бросился в кусты. Не пробежал и трёх шагов – заряд картечи из обреза распорол ему спину.
– Прорываемся! – рявкнул Белов, выхватывая из-за голенища финку. В темноте, в сполохе выстрела, мелькнуло лицо бандита – совсем молодого, с тонкими усиками и испуганно-злыми глазами. Белов, не раздумывая, ударил снизу, коротко и зло, под самые рёбра. Лезвие вошло по гарду. Бандит выдохнул, схватил его за предплечье, вглядываясь в лицо Ерофея Петровича с непонятным удивлением, дёрнулся и обмяк, заливая кровью его шинель.
Вокруг третьей подводы кипел короткий, яростный бой. Мохнач, взревев, орудовал винтовкой как дубиной, размашисто и страшно. Когда один из нападавших вцепился ему в горло, Петренко, подскочив, молча всадил штык между лопаток.
– Лошадь! Хватайте под уздцы! – крикнул Белов, запрыгивая на облучок и перехватывая вожжи. – Григорьев, сюда!
Бледный, с трясущимися губами Григорьев швырнул в темноту последнюю гранату и одним прыжком, почти неправдоподобно лёгким, взлетел на телегу.
– Гони! – заорал Мохнач, хватаясь окровавленными руками за борт.
Белов хлестнул лошадь, заорав дико, по-разбойничьи. Животное рванулось с места с такой силой, что телегу едва не опрокинуло. Они неслись сквозь кустарник, ломая ветки, ныряя в спасительную темноту. Сзади гремели выстрелы, кто-то визжал тонко и страшно. Петренко, вцепившись в боковой ящик, шипел сквозь зубы:
– Давай, родная, давай! Уходим!
Деревья мелькали, ветки хлестали по лицу. Григорьев свалился на дно телеги и лежал там, скрючившись. Белов гнал и гнал, пока выстрелы не заглохли вдали.
– В чащу, – прохрипел Мохнач, зажимая плечо. – Туда сунутся – чёрта с два найдут.
Белов рванул вожжи влево. Ветви сомкнулись над головой, царапая лица. Продирались сквозь бурелом, пока измученная лошадь не встала как вкопанная, тяжело дыша и закатывая белки глаз.
– Стой, – выдохнул Белов. – Приехали.
Глухая, мёртвая тишина. Лишь капель с веток да тяжёлое, рваное дыхание четырёх человек. Спешились. Вокруг – сплошная стена деревьев, ни клочка неба, ни лунного света.
Петренко сплюнул кровью.
– Гады… Почти всех положили…
– А ты как хотел? – процедил Белов, оттирая с лица липкую, быстро остывающую кровь. Ладонь саднила – рассечена чем-то острым. – Классическая засада. Деревце поперёк дороги, а пока мы ковыряемся, они берут в кольцо.
Григорьев сидел на сырой земле, обхватив голову руками. Его била крупная дрожь.
– Эй, боец, – Белов тронул его за плечо. – Ранен?
Тот лишь мотнул головой. Белов протянул ему флягу.
– На, глотни. Спирт.
Григорьев вцепился в неё, отпил, закашлялся.
– Тише ты! – зашипел Мохнач, испуганно оглядываясь. – Услышат.
– Кто тут услышит, – буркнул Петренко, присаживаясь и начиная разматывать портянку. – Им сейчас добычу делить надо. До утра не сунутся.
Белов подошёл к телеге, провёл ладонью по мокрым ящикам.
– Десять. Десять уцелело. Остальные… – он не договорил.
Петренко странно хмыкнул.
– Потеряли, значит? Что ж… не всё потеряно.
– Ты чего там бормочешь? – Мохнач глянул на него с подозрением.
– Говорю, хоть что-то спасли, – пожал плечами Петренко, поморщившись от боли в ране. – Не с пустыми руками возвращаться.
Они замолчали. Лошадь фыркнула, переступила с ноги на ногу. Где-то высоко над головой шумел ветер, но здесь, внизу, было тихо, как в склепе.
– Надо решать, – Белов сел на поваленный ствол, положив наган на колени. – Нас четверо. У меня с Мохначом по паре обойм на брата. Харчей – кот наплакал. Назад нельзя, их там вдесятеро больше. Значит, надо к Байкалу пробиваться.
– Переждать надо, – сказал Мохнач, прислонившись к дереву. – До рассвета. По-светлому виднее будет.
Петренко покачал головой.
– С рассветом искать будут. Из-за этого, – он кивнул на ящики. – Золото ведь.
Белов резко повернулся.
– Кто сказал?
– Да полно, товарищ командир, – усмехнулся Петренко. – Не дети малые. Ящики оцинкованы, вес такой, что пуп развяжется. И охрана… Не соль же мы везём, в самом деле.
– Язык придержи, – стиснув зубы, сказал Белов.
– А кто услышит? – отвернулся Петренко. – Свидетелей нет. Все полегли.
Григорьев вдруг поднял голову, его голос сорвался:
– А если… если мы… один ящик…
Белов обернулся и посмотрел на него. Просто посмотрел. Григорьев осёкся и умолк.
– …до Маньчжурии отсюда не так далеко, – едва слышно закончил парень, опустив глаза. – Там наши живут… Домик с садом…
– Это тебе Петренко напел? – в голосе Белова зазвенел лёд.
Мохнач медленно выпрямился, его рука легла на винтовку.
– Так вот оно, значит, что… Уже и сговориться успели, крысы.
– Да вы что, товарищи! – побледнел Петренко. – Мы просто рассуждали… – его рука сама собой скользнула к ножу на поясе.
– Не думай, – Белов вскинул наган. – Руки.
Григорьев смотрел на них расширенными от ужаса глазами.
– Товарищ Белов, мы не то… Это просто…
– Молчать, – оборвал его командир. – Предатели. По законам военного времени…
Мохнач шагнул вперёд, уперев ствол винтовки Петренко в грудь.
– Я так и знал, что ты гнида. Змея подколодная.
Петренко вдруг как-то обмяк, расслабился, опустил руки.
– А ты, Белов, святой? Ни разу не подумал кусок пожирнее себе отхватить? Три года гниём на этой войне. И что имеем? Вшей да цингу. А у комиссаров в тылах – икра да бабы голые.
– Сука, – выдохнул Белов, поднимая наган на уровень глаз. – Мы за идею. За будущее. А ты…
– Да плевал я на твою идею! – вдруг взвился Петренко. – Сегодня одна идея, завтра другая! А жизнь одна! Она, твою мать, одна!
Григорьев вскочил, заслоняя собой Петренко.
– Не надо, товарищ командир! Пощадите! Он не со зла… он просто… мечтал вслух…
Белов перевёл взгляд на перепуганное, заплаканное мальчишечье лицо. Таких, как Григорьев, он видел сотни – юных, неоперившихся, верящих первому встречному. Медленно опустил наган.
– Сядь. И чтоб я тебя не слышал.
Мохнач не опускал винтовки.
– Командир, что с ними делать? Пришить, пока не поздно?
Белов покачал головой.
– Нет. Пока нет. Нам груз доставить надо. Это золото… чёртово золото… это кровь революции. Без него всё к чертям рухнет.
– Допустим, – сощурился Петренко. – Доставим. А потом что? К стенке за разговоры?
– Потом будет потом, – отрезал Белов. – А пока – ты под конвоем. Мохнач, глаз с него не спускай. Свяжи его. И этого тоже. – Он кивнул на Григорьева. – Поспим пару часов. С рассветом выдвигаемся.
Он отвернулся, достал из кармана кисет. Скрутил цигарку, чиркнул спичкой. Огонёк на мгновение выхватил из тьмы его лицо – не командирское, а простое, смертельно усталое лицо мужика.
***
Рассвело косо, неохотно. Первые лучи, пробиваясь сквозь густую хвою, лишь делали ночной таёжный мрак более серым и бесприютным. Белов медленно поднялся, размял затёкшие члены, морщась от боли в спине. Ночь на холодной земле не принесла отдыха.
– Подъём, – тихо скомандовал он, толкая носком сапога спящего Григорьева. – Двинули.
Тот вздрогнул, и глаза его распахнулись мгновенно, будто он и не спал вовсе. Взгляд метнулся к груде ящиков и тут же потух. Он неловко поднялся, разминая ноги. Мохнач уже был на ногах, хмурый, как грозовая туча, и стерёг связанных. Петренко сидел, прислонившись к сосне, и смотрел исподлобья – со смесью лютой злобы и затаённой надежды.
– Развяжи, командир, – процедил он. – Обузой буду. Налетят – и что я, связанный?
Белов молча отхлебнул из фляги ледяной воды и покачал головой.
– Обойдёшься. Не доверяю.
– Боишься? – Петренко растянул губы в кривой усмешке. – Правильно боишься.
Мохнач шагнул было к нему, но Белов остановил его взглядом.
– Спокойно. Не шуми.
Потрёпанная подвода тронулась в путь. Впереди Белов вёл под уздцы измученную лошадь. Позади понуро брели связанные, а замыкал шествие Мохнач с винтовкой наготове.
Двигались медленно. Знойная духота сменила утреннюю прохладу, назойливо загудели оводы. Пот едкой солью разъедал глаза. Белов то и дело оглядывался на своих пленников. Петренко шёл с прикрытыми глазами, но Белов знал – он не дремлет, он выжидает, как паук в центре паутины. Рядом с ним плёлся Григорьев, сгорбившись, втянув голову в плечи. Его пальцы без конца теребили верёвку на запястьях – то ли от нервов, то ли исподтишка проверяя узел на прочность. Заметив взгляд командира, парень тут же замер.
К полудню вышли на небольшую поляну.
– Привал, – бросил Белов.
– Командир, – Петренко подался вперёд, заговорил вкрадчивым, змеиным шёпотом, – давай по-людски. Ты, я, Мохнач, даже этот сопляк, – он кивнул на Григорьева. – Всем хватит. По два ящика на нос. Остальные доставим. Никто и не узнает. До Маньчжурии отсюда рукой подать…
Белов молча отвернулся, высекая огонь для цигарки.
– Ты подумай, – не унимался Петренко. – У тебя мать в Тамбове. Старенькая. А с золотом ты её до смерти обеспечишь. По-царски жить будет…
– Заткнись, – глухо произнёс Белов, не оборачиваясь.
– Не слушай его, командир, – сплюнул Мохнач. – Он тебе наплетёт с три короба, а сам думает, как бы нас обоих пришить да с золотишком смыться.
– Я хоть честен! – испепелил его взглядом Петренко. – Не прячусь за красивые слова. А тебя, Мохнач, что ждёт? Медаль? Выжмут, как тряпку, и выбросят. А то и поставят к стенке за то, что не уберёг груз. Скажут: «Где остальные ящики, товарищ Мохнач? “ И всё.
– Ещё слово, – Мохнач вскинул винтовку, – и я тебе глотку заткну. Навсегда.
– Хватит собачиться, – устало махнул рукой Белов. – Выступаем.
К вечеру впереди засинела вода.
– Байкал, – с надеждой выдохнул Григорьев.
– Он самый, – кивнул Белов. – Дотянем до берега, там и заночуем.
Спустились к воде уже в сумерках. Озеро, безбрежное и суровое, как холодное море, дышало стылым ветром. Волны с тихим шорохом лизали гальку.
– Здесь становимся, – сказал Белов. – Мохнач, проверь верёвки у этих. Да покрепче затяни.
– Будет сделано, – хмыкнул Мохнач.
Он грубо дёрнул руки Петренко, затягивая узел до хруста. Потом подошёл к Григорьеву. Тот не сопротивлялся, покорно протянул запястья. Мохнач, затягивая узел, присел ниже, чем следовало. Из-за голенища его сапога выскользнула финка и беззвучно канула в густую траву у самых ног Григорьева. Мохнач этого не заметил. Выпрямился, хрустнул спиной и пошёл распрягать лошадь.
Глаза Григорьева на миг метнулись вниз и тут же вернулись к лицу Мохнача. Он не шелохнулся.
Развели маленький костерок. Белов разделил остатки сухарей.
– Пей, – протянул он кружку с кипятком Григорьеву. Тот вцепился в неё, отхлебнул, обжигаясь, и закашлялся.
– Всю жизнь осторожничаю, – вдруг буркнул Григорьев, глядя в огонь. – А толку-то?
Белов пристально посмотрел на него, но тот снова сжался, ушёл в себя.
– Я в первую смену, – сказал Мохнач, зевая. – Заодно винтовку почищу.
Он устроился у костра, разложил на тряпице принадлежности для чистки.
– Эх, скорей бы конец этому всему. Я б на Украину подался. Там, говорят, земли бесхозной – бери не хочу…
Вскоре лагерь затих. Лишь потрескивал костёр да шуршали волны. Мохнача, сидевшего у сосны, постепенно сморила усталость. Движения его замедлились, руки, собиравшие затвор винтовки, опустились. Голова поникла на грудь, дыхание стало ровным и глубоким.
Тень отделилась от соседней сосны. Беззвучно скользнула по хвое, на миг замерла над травой, где тускло блеснуло лезвие, и двинулась дальше. Осторожно, шаг за шагом, она приблизилась к спящему Мохначу. Одна рука молниеносным движением зажала ему рот, а вторая… ледяное лезвие вошло под левую лопатку, точно в щель между рёбрами. Тело конвульсивно выгнулось и тут же обмякло. Убийца аккуратно опустил его на землю и, не переводя дыхания, повернулся к другому спящему – Петренко.
Тот спал, приоткрыв рот. Убийца, не колеблясь, вонзил нож ему в грудь. Короткий сдавленный хрип вырвался из горла умирающего.
Белов вздрогнул и открыл глаза. Секунду он непонимающе смотрел на тёмную фигуру, потом его взгляд упал на распростёртое тело Петренко, на тёмное пятно, расползавшееся по гимнастёрке.
– Григорьев? – прошептал он, вглядываясь в знакомые черты.
– Я не сопляк, товарищ командир, – хрипло ответил тот. – Хватит.
Белов рванулся за наганом, но не успел. Григорьев шагнул вперёд, и лезвие финки легко и почти безболезненно вошло в сердце. Глаза Белова расширились от смертного удивления, ещё мгновение смотрели в звёздное небо, а потом подёрнулись мутной пеленой.
Григорьев медленно выпрямился. Вытер нож о гимнастёрку убитого. В неверном свете догорающего костра его лицо было спокойным и даже каким-то ясным. Исчезла затравленность, расправились плечи. Он отряхнул с коленей хвою и, не оглядываясь, пошёл к подводе с ящиками, негромко насвистывая мотив «Красная Армия всех сильней».
***
Он подошёл к подводе – уже не затравленный боец, а новый хозяин. Не таясь, не прислушиваясь к ночи, потому что ночь теперь принадлежала ему. Взгляд хищно выхватил из нагромождения ящиков тот самый, помеченный Петренко, – крайний, с едва заметной трещиной в доске.
Лезвие финки вошло в щель легко, как ключ в замок. Он надавил. Доска с тихим, протестующим скрипом поддалась. Лунный свет упал в открывшуюся черноту и утонул в ней, но из глубины ему навстречу поднялось иное сияние – густое, маслянистое, тяжёлое. Золото. На каждом слитке, тускло отсвечивая, проступал двуглавый орёл. Царское.
Воздух застыл в гортани. Григорьев осторожно, словно боясь обжечься, провёл пальцами по гладкой, неправдоподобно холодной поверхности металла, ощущая рельеф герба.
– Вот ты какое… – прошептал он и вынул один слиток.
Неожиданная тяжесть властно потянула руку вниз. Это была не просто тяжесть металла – это была тяжесть новой жизни. Дом. Земля. Безопасность. Власть.
– Всё будет по-другому, – пробормотал он, заворожённо глядя, как играет свет на полированных гранях. – Совсем по-другому.
Словно очнувшись, он аккуратно вернул слиток на место, задвинул доску. А затем, уже без суеты, методично и споро, начал заметать следы. Проверил стягивающие ящики верёвки, подтянул узлы. Подобрал винтовку Мохнача, сунул её под мешковину в телеге. Подошёл к лежащему навзничь Белову. Не глядя в его открытые, смотрящие в небо глаза, вытащил из-под тела ещё тёплый наган и засунул себе за пояс.
Лошадь всхрапнула, когда он принялся её запрягать.
– Потерпи, милая, – сказал Григорьев, властно похлопывая её по шее. – Нам с тобой теперь далеко ехать.
Взобравшись на облучок, он тронул поводья. Подвода скрипнула и медленно двинулась с места. Григорьев направил её вдоль берега, держась кромки леса, – так он был невидим с воды, но сам не терял из виду тёмное зеркало Байкала.
Тайга молчала, проглатывая скрип колёс.
– Никто не узнает, – шептал он, лихорадочно оглядываясь на свой драгоценный груз. – Отряд разбит. Они там… – он кивнул в сторону покинутого лагеря, – просто сгинули в тайге. Пропали без вести. А я… меня никогда и не было. Я начну всё с чистого листа.
Он глубоко вздохнул, и плечи его расправились. На лице застыла странная, напряжённая улыбка.
– «Борьба меняет жизнь», – передразнил он мёртвого Белова. – Нет, товарищ командир. Золото меняет жизнь. И теперь я сам себе командир.
Лошадь осторожно ступала по каменистой тропе. Путь становился всё опаснее: справа – обрыв и сосущая чёрная пустота воды, слева – нависающие скалы. Дорога сузилась до узкого карниза, и колесо подводы пару раз опасно чиркнуло по самому краю.
– Тише ты, кляча, – процедил Григорьев, натягивая поводья. – Ухнешь – и всё прахом.
Сверху донёсся шорох, будто кто-то огромный и невидимый поворочался во сне. Григорьев замер, вцепившись в вожжи. Мелкий камешек сорвался со скалы, цокнул по колесу и с лёгким плеском исчез в воде. Он резко выхватил винтовку.
– Кто там? ! – хрипло крикнул он в темноту. – Выходи!
Тишина. Лишь утробный гул воды внизу да испуганное дыхание лошади.
И тут сверху донёсся грохот. Уже не камешек – целый валун покатился вниз, увлекая за собой другие. Лошадь дико заржала, вздыбилась. Григорьев, выронив винтовку, отчаянно вцепился в поводья.
– Вперёд! Н-но, тварь!
Сверху нарастал тяжёлый, перемалывающий гул. Камнепад. Лошадь, обезумев от страха, рванулась, теряя опору. Колесо соскользнуло с карниза. Подвода накренилась. Отчаянный, тонкий крик Григорьева потонул в грохоте падающих камней и предсмертном ржании.
Огромная глыба ударила в центр подводы, и треск ломающегося дерева слился со звуком последнего конвульсивного выдоха. Телега, ящики, лошадь и человек – всё это единой, корёжащейся массой рухнуло в чёрную воду.
Тяжёлый всплеск на мгновение нарушил покой озера. Волны всколыхнулись, разбежались кругами, подёрнулись рябью и снова разгладились.
Озеро вновь стало безмятежным, и в его чёрном зеркале, как и прежде, равнодушно отражались вечные звёзды.
***
Квартира Софии располагалась в старом доходном доме на Петроградской стороне – из тех, что каким-то чудом пронесли своё строгое величие сквозь все бури двадцатого века. Парадная, где с высокого потолка облетала позолота, а старый лифт с панелями из тёмного дерева нехотя полз вверх, пахла пылью и прошлым.

