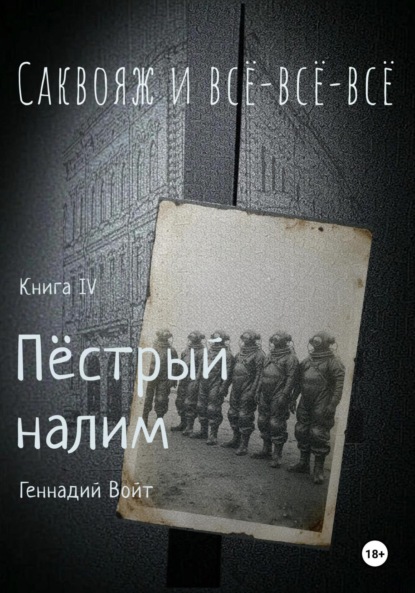
Полная версия:
Саквояж и всё-всё-всё. Пёстрый налим
– Наш новый скафандр – настоящий прорыв, Александр Николаевич! – говорил он, понизив голос, словно делился государственной тайной. – Вес – почти центнер, но благодаря инновационной гидравлической системе компенсации под водой водолаз будет чувствовать лишь треть этого веса. Шлем оснащён передовой системой регенерации воздуха, на спине – уникальный акваланг с замкнутым циклом, обеспечивающий автономность до восьми часов. А корпус! Корпус из нового титанового сплава, что позволяет погружаться на глубину до четырёхсот метров – это вдвое глубже, чем у существующих моделей!
– А связь? – спросил подошедший Богданович.
Михаил Степанович Богданович оказался именно таким, как и на фотографии – крепкий, немногословный человек с цепким, уверенным взглядом. Он с первых дней проявил себя как опытный водолаз, скрупулёзно проверяя каждую деталь снаряжения.
– Встроенная гидроакустическая система связи использует сложное частотное кодирование, – продолжил Светозар. – Это засекреченная разработка. Плюс передача биометрических данных на поверхность. Мы будем знать всё о состоянии водолаза – пульс, давление, температуру тела, уровень кислорода в крови…
– Впечатляет, – кивнул Богданович. – А если возникнут проблемы со связью?
– Система дублирована. Основной канал – гидроакустический, но есть и резервный электромагнитный. В критической ситуации активируется система аварийного всплытия. Но вероятность такого развития событий крайне мала.
К ним подошёл Павел Георгиевич Зиминский – невысокий, полноватый мужчина с аккуратной бородкой и внимательным взглядом. Он оказался совсем не таким, каким его представлял Зор-Зенин. Вместо сурового военного врача – интеллигентный, разговорчивый человек с мягкими манерами. Впрочем, его профессионализм не вызывал сомнений.
– Добрый день, коллеги, – поздоровался он. – Обсуждаете наше глубоководное чудо техники?
– Да, Павел Георгиевич, – кивнул Зор-Зенин. – Светозар объясняет нам принцип его работы.
– Меня очень интересует система жизнеобеспечения, – сказал врач. – Особенно в условиях низких температур Байкала. Вода там даже летом около пяти-семи градусов, а на глубине ещё холоднее.
– Не беспокойтесь, – заверил его Светозар. – Система терморегуляции выдерживала испытания и при минусовых температурах в барокамере.
К группе присоединились остальные участники экспедиции – геологи Синевский и Лунгинов, а также гидролог Шумилов. Все они были опытными учёными, но никто из них не подозревал о настоящей цели операции «Пёстрый налим».
Зор-Зенин наблюдал за коллегами с двойственным чувством. С одной стороны, он был рад работать с такими профессионалами. С другой – его тяготила необходимость скрывать от них истинную причину экспедиции. Они верили, что едут исследовать геологическую структуру байкальского дна, а на самом деле… На самом деле они были лишь прикрытием для большой, грязной игры, затеянной где-то в московских кабинетах. И только он и Игнатов знали правду.
Кстати, где этот майор? Зор-Зенин огляделся. Игнатов, как всегда, появился незаметно, словно материализовавшись из воздуха, и так же незаметно исчезал. Настоящий человек-тень. Судя по всему, он серьёзно относился к своей роли негласного наблюдателя.
– Ну что, коллеги, – Зор-Зенин обратился к команде, – завтра вылетаем. Проверьте ещё раз личное снаряжение. И помните о режиме секретности – никаких разговоров о цели экспедиции с посторонними.
Команда разошлась по своим делам. Зор-Зенин остался один. Он подошёл к окну и некоторое время стоял, глядя на соседние крыши. Завтра они отправятся в путь. Байкал… Древнее озеро, хранящее множество тайн. И, возможно, одна из этих тайн – проклятое золото Колчака.
Зор-Зенин не верил в сказки о сокровищах. Но история с дневником поручика Савина не давала ему покоя. Что, если это правда? Что, если они действительно найдут золото на дне озера? И что тогда сделает Стальский?
***
В тот же вечер, в своём домашнем кабинете, напоминавшем скорее хранилище государственных тайн, нежели жилое помещение, Павел Игнатьевич Стальский принимал доклад майора Игнатова.
– Они готовы? – спросил он, и его рука, державшая тяжёлый хрустальный графин, не дрогнула, когда он наполнял бокалы янтарной жидкостью.
– Технически – да, – ответил Игнатов, принимая бокал с почтительным, но лишённым всякого подобострастия кивком. – Скафандры проверены, оборудование упаковано. Команда подобрана грамотно.
– А морально? – Стальский впился в майора взглядом, которым хирург смотрит на операционное поле перед первым надрезом.
– Зор-Зенин настроен на научную работу, – Игнатов едва заметно пожал плечами – жест, означавший не сомнение, а лишь сухую констатацию факта. – О золоте говорит неохотно. Считает это не только отвлекающим фактором, но и, цитирую, «забавной сказкой о сокровищах».
Стальский усмехнулся. Усмешка получилась тонкой, почти хищной.
– Пусть думает, что хочет. Главное, чтобы искал там, где нужно, – он сделал глоток коньяка. – Что остальные?
– Команда не знает о настоящей цели. Им сказано, что это геологическая экспедиция с элементами испытания нового оборудования. Все подписали бумаги о неразглашении.
Стальский кивнул. Всё шло по плану.
– Слушайте внимательно, майор, – Стальский подался вперёд, и его массивная фигура, пересекая свет настольной лампы, на мгновение сделалась бесформенной, как сгусток темноты, готовый поглотить всё вокруг. – Если они действительно что-то найдут, ваша задача – обеспечить, чтобы информация дошла только до меня. Никаких отчётов в институт, никаких записей в официальных журналах. Только ко мне. Лично.
– Понял, – коротко ответил Игнатов.
– И помните: экспедиция должна завершиться успехом. Не только научным. Вы меня понимаете?
Майор допил коньяк и поставил пустой бокал на полированную поверхность стола. Звук получился глухим, окончательным.
– Я не подведу, Павел Игнатьевич.
– Знаю, – кивнул Стальский. – Иначе бы я не доверил вам это дело.
Когда тяжёлая дубовая дверь за Игнатовым беззвучно закрылась, Стальский долго сидел в кресле, вертя в руках полупустой бокал. Всю жизнь он шёл к власти, и вот она в его руках. Но настоящая власть – это не только положение в партийной иерархии, не кремлёвские кабинеты и испуганные взгляды подчинённых. Это свобода. Абсолютная, ничем не ограниченная независимость. То, что может дать только золото. Очень много золота.
Он поднял бокал, словно произнося тост в пустоту:
– За успех операции «Пёстрый налим»!
***
Ранним морозным утром первого апреля 1962 года военно-транспортный самолёт, прорезав свинцовые облака, приземлился в аэропорту Иркутска. Экспедиция «Пёстрый налим» прибыла на место.
Зор-Зенин спускался по металлическому трапу, вдыхая колючий, стеклянный воздух Сибири, который после московской слякоти казался почти стерильным. Где-то там, в пятидесяти километрах отсюда, в чаше гор, лежал Байкал – самое глубокое озеро планеты, хранящее бесчисленные тайны. А может быть, и золото Колчака. Кто знает?
Игнатов, словно тень, материализовался у его локтя.
– Началось, Александр Николаевич, – тихо, почти беззвучно произнёс он. – Дороги назад уже нет.
***
Самолёт, провисев в воздухе шесть часов, наконец обрёл под собой твердь иркутской земли. Я вывалился из его душного чрева помятый, как прочитанная от корки до корки и брошенная в кресле газета. София, напротив, выглядела так, будто всё это время медитировала в бизнес-классе, – её глаза светились предвкушением. Гриша же был мрачен, как инспектор ОБХСС, обнаруживший недостачу на складе.
– Напомните мне, почему мы не полетели летом? – проворчал он, пытаясь размять затёкшую шею. – В апреле на Байкале всё ещё холодно.
– Именно поэтому, – ответила София. – Дед исчез в апреле. Хочу увидеть Байкал таким, каким видел его он.
Мы направились к багажной ленте. Я вытащил телефон, чтобы проверить сообщения, как вдруг услышал возмущённый возглас Гриши:
– Какого чёрта? Это что, шутка?
Я поднял глаза. По багажной ленте, как на параде, плыл его огромный, почти гротескный чемодан, перехваченный накрест ярко-жёлтой лентой. На ленте жирным маркером было выведено: «Осторожно! Научное оборудование».
– Это твой? – спросил я, с трудом сдерживая смех.
– Нет! – Гриша покраснел до корней своих рыжих волос. – То есть да, но я не писал этого. И не обматывал.
София не выдержала и рассмеялась – тихо, но так заразительно, что несколько человек обернулись.
– Прости, – выдавила она сквозь смех. – Это я. Подумала, что так ему точно ничего не будет угрожать.
– И ты была права, – проворчал Гриша. – Даже я теперь боюсь к нему прикасаться.
Он потянулся за чемоданом, но тот, будто обладая собственной злой волей, застрял на повороте ленты. Гриша дёрнул сильнее, чемодан поддался и по инерции врезался в стоящего рядом мужчину в форме, крепкого, как хорошо сколоченный ящик.
– Извините! – воскликнул Гриша. – Я не хотел…
– Научное оборудование? – строго, почти без вопросительной интонации, произнёс мужчина, отряхивая с кителя невидимую пыль. – Для перевозки такого груза нужно специальное разрешение. Документы имеются?
– Вообще-то… – начал было Гриша, но София, с её дипломатическим талантом, тут же вмешалась.
– Простите, это недоразумение, – она мило улыбнулась. – Никакого оборудования там нет. Просто шутка друзей. Мой приятель – аспирант, защищает диссертацию. Вот мы и решили его так… творчески поддержать.
Мужчина недоверчиво перевёл взгляд с её обворожительной улыбки на наши с Гришей физиономии, которые, надо полагать, не слишком походили на лица аспирантов.
– Можете проверить, – предложил я. – Там только одежда и книги.
– И уникальная коллекция носков, – с абсолютно серьёзным видом добавил Гриша. – Научно классифицированная.
Мужчина несколько секунд пристально смотрел на Гришу, а потом в уголках его губ что-то дрогнуло, и он неожиданно сдержанно, по-военному улыбнулся.
– Ладно, идите, учёные. Но в следующий раз будьте осторожнее со своим… научным оборудованием.
***
За пределами аэропорта нас поджидала новая проблема: как добраться до Листвянки.
– Можно взять такси, – предложила София, разглядывая карту в телефоне. – Но это дорого.
– А может, автобус? – предложил я.
– Автобус, наверное, будет трястись три часа, – скривился Гриша. – Со всеми остановками. У меня от одной мысли морская болезнь начинается.
В этот момент к нам подошёл коренастый мужчина лет пятидесяти. Обветренное, будто выдубленное байкальскими ветрами лицо, хитрый прищур глаз, в которых, казалось, отражалось само озеро – то спокойное, то с чертовщинкой, – и руки, привыкшие, видно, и к штурвалу, и к стопке водки.
– До Листвянки, говорите? – спросил он. – Могу подбросить. Недорого.
– Вы подслушивали? – подозрительно спросил Гриша.
Мужчина усмехнулся.
– В аэропорту Иркутска только два типа туристов: те, кто едет в Листвянку, и те, кто ошибся аэропортом. Но вы на таких не похожи.
Мы переглянулись. Логика была железной.
– Меня зовут Михалыч, – представился мужчина. – Езжу туда-сюда каждый день. Живу в Листвянке, а сюда по делам мотаюсь.
– И сколько? – спросила София.
Михалыч назвал цену. Она была вполне разумной, и мы согласились.
***
Старенькая, но крепкая «Тойота Ленд Крузер Прадо» Михалыча бодро катилась по трассе вдоль берега Ангары. За окнами мелькали леса, перемежающиеся деревушками и приземистыми дачными участками.
– Первый раз на Байкале? – спросил Михалыч, поглядывая на нас в зеркало заднего вида.
– Да, – кивнула София. – Хотим посмотреть озеро.
– В апреле? – усмехнулся Михалыч. – Странное время для туризма. Лёд сходит, погода непредсказуемая. Да и смотреть особо нечего. Вот летом – другое дело.
– У нас… исследовательский интерес, – уклончиво ответил Гриша.
– А-а-а, – протянул Михалыч с пониманием. – Учёные, значит. Что изучаете?
– Геологию, – быстро сказал я. – Изучаем… породы.
– Породы? – Михалыч хмыкнул. – Это которые из земли или которые мохнатые и на четырёх лапах?
София рассмеялась.
– Из земли. Мы хотим изучить… – она запнулась.
– Глубоководные отложения, – подсказал Гриша. – В районе истока Ангары.
– Ну-ну, – покивал Михалыч, и я готов был поспорить, что в зеркале заднего вида он скептически ухмыльнулся. – И как же вы собираетесь изучать глубоководные отложения? Нырять будете?
– Нет, – пожал плечами Гриша. – Мы… э-э… возьмём прибрежные пробы.
– В апреле? Когда лёд ещё не до конца сошёл? – Михалыч покачал головой. – Знаете, я пятьдесят лет на Байкале живу. Повидал всяких… исследователей. И все они что-то ищут. Но надо осторожнее, чтобы не найти всякие неприятности.
Мы замолчали. За окном проплывали сосны, укутанные лёгкой дымкой тумана. Гриша неловко заёрзал на сиденье.
– А вы не подскажете, где можно остановиться в Листвянке? – спросил я, меняя тему.
– Гостиницы дорогие, – ответил Михалыч. – Но если хотите, могу вам свой домик сдать. Небольшой, но уютный. Я всё равно там не живу.
– Это было бы идеально, – обрадовалась София. – А он далеко от воды?
– Метров двести, не больше. С веранды Байкал как на ладони.
Дорога петляла между холмами. За очередным поворотом внезапно открылась панорама: внизу, в чаше гор, раскинулась огромная водная гладь. Часть озера ещё была покрыта льдом, но у берегов уже темнела вода.
– Байкал, – тихо сказала София.
– Он самый, – кивнул Михалыч. – Только малую часть видите. Это как если бы вы на крышу дома посмотрели и решили, что всё здание увидели.
– Впечатляет, – признал Гриша, прильнув к окну.
– Это ещё что, – хмыкнул Михалыч. – Вот когда в шторм увидите – тогда поймёте, почему его морем называют. А когда в ясный день на лёд выйдете – поймёте, почему его называют священным.
***
Домик Михалыча приютился на склоне холма, среди корабельных сосен – добротный сруб из потемневших, словно прокопчённых временем брёвен, с крепким крыльцом и небольшой верандой. Внутри было на удивление чисто и по-своему уютно: две комнаты, белёная печка, старая, но ладно скроенная мебель.
– Ничего особенного, конечно, – развёл руками Михалыч, – но для ночлега сойдёт. Печку топить умеете?
– Приходилось, – кивнул я, вспоминая бабушкину дачу.
– Ежели захотите посидеть у огня, как в старые времена, дрова во дворе. Вода – в колодце за домом. Туалет тоже там, – он усмехнулся, увидев, как вытянулось лицо Гриши. – Шучу. Туалет в доме. Маленький, но со всеми удобствами. Я ж не дикарь какой, из тайги намедни вышедший.
София с тихим любопытством осматривала комнату.
– А это что? – спросила она, указывая на старую, выцветшую фотографию в простой деревянной рамке.
– Отец мой, – ответил Михалыч, и в голосе его прозвучала не то гордость, не то застарелая тоска. – Он тут рыбаком был. Я от него дом унаследовал.
– А давно вы тут живёте? – спросил Гриша, деловито пристраивая свой раздутый, как бока утонувшего купца, чемодан в угол.
– Всю жизнь, – пожал плечами Михалыч. – Тут родился, тут, видать, и помру.
– А вы не помните… – начала София, но я легонько наступил ей на ногу. Она осеклась.
– Что не помню? – насторожился Михалыч, его взгляд стал внимательнее.
– Не помните, где тут ближайший магазин? – быстро закончил я за неё. – Нам бы продуктов купить.
– А, это, – Михалыч расслабился. – В центре посёлка. Минут пятнадцать отсюда пешком, если не спешить. Только сейчас уж поздно, заперт, поди. У меня в холодильнике есть кое-что. Возьмите. А завтра сходите.
Он открыл маленький, дребезжащий холодильник и достал оттуда пакет с пельменями.
– Спасибо, – поблагодарила София. – Вы очень добры.
– Да ладно, – смутился Михалыч. – Свои люди – сочтёмся.
Когда он ушёл, Гриша с преувеличенным стоном рухнул на скрипучий диван.
– «Изучаем породы», – передразнил он меня. – Теперь он думает, что мы какие-то городские идиоты с причудами.
– Он так не думает, – сказала София, раскладывая свои немногочисленные вещи. – Он милый. И домик хороший. И вид…
Она подошла к окну. Из него открывался потрясающий, почти нереальный вид на Байкал. Солнце клонилось к закату, окрашивая воду и ледяные поля в густые, драматичные тона – от розового до багряного.
– Кстати, – Гриша приподнялся на локте. – Ты ведь хотела его спросить про экспедицию деда?
– Да, – кивнула София, не отрывая взгляда от озера. – Но Виктор прав. Сначала надо осмотреться. Может, здесь есть старожилы, которые что-то помнят. Михалыч слишком молод для тех событий.
Я подошёл к окну и встал рядом с Софией. Байкал лежал перед нами – огромный, древний, хранящий свои тайны. Где-то там, в его холодных глубинах, шестьдесят лет назад исчез человек. И мы приехали, чтобы узнать почему.
– Знаете, – сказал я, глядя на воду, – я вдруг подумал: а что, если мы действительно что-то найдём?
– Научную сенсацию? – хмыкнул Гриша. – Новый вид байкальских рачков, доселе неведомых науке?
– Или затонувшие сокровища? – улыбнулась София.
– Или просто правду, – пожал я плечами. – Иногда это самая большая ценность.
***
Антон Викторович Северцев не любил летать. Тесные кресла, непредсказуемые попутчики со своими запахами и разговорами, спёртый, пропущенный через тысячу фильтров воздух, навязчивый гул двигателей – всё это вызывало у него мигрень и глухое, подспудное раздражение. Но работа есть работа. Особенно когда за неё платят так, что можно позволить себе не любить что угодно.
Он сидел в зале ожидания аэропорта Пулково, делая вид, что углублён в чтение газеты. На самом деле его внимание, острое и цепкое, как у хищной птицы, было приковано к трём людям, расположившимся через несколько рядов. Двое мужчин и женщина. Точнее, девушка – лет тридцати, не больше. Она что-то оживлённо рассказывала своим спутникам, и её тонкие, нервные пальцы то и дело поправляли выбившуюся из причёски прядь.
«София Зор-Зенина», – отметил про себя Антон. Внучка. Вот уже третий день он, как тень, следовал за ней.
Мужчины тоже были знакомы. Григорий Зискинд – историк, специалист по советскому периоду, с энтузиазмом вечно влипающий в сомнительные авантюры. И Виктор Левицкий – журналист, чьи статьи в глянцевых журналах были куда умнее, чем можно было ожидать от этого жанра. Недавние знакомые Софии. Теперь – её подельники.
Объявили посадку на рейс до Иркутска. Антон подождал, пока троица пройдёт к выходу, и только потом поднялся сам. Профессионализм заключался в деталях: не привлекать внимания, быть безликим. Средний рост, непримечательная внешность, одежда, которую не запоминаешь. Единственной его особенностью был шрам – тонкая белёсая ниточка, пересекающая левую бровь. Но чуть отросшие волосы и манера слегка наклонять голову почти полностью его скрывали.
Антон занял своё место в хвосте самолёта, через четыре ряда позади своих подопечных. Идеальная позиция: он видел их, они его – нет. Он достал планшет и сделал вид, что смотрит фильм. На самом деле включил диктофон и направил устройство в их сторону. Шум двигателей, конечно, заглушал большую часть разговора, но иногда до него долетали обрывки фраз. Ничего существенного: бытовые мелочи, шутки, планы на размещение. Но Антон записывал всё. В его ремесле мелочи часто оказывались важнее громких заявлений.
По прошествии часа полёта он прикрыл глаза, имитируя сон. Из-под опущенных век он продолжал наблюдать. София что-то сосредоточенно записывала в блокнот. Зискинд читал книгу, время от времени делая пометки на полях. Левицкий, откинув голову на подголовник, дремал, как человек, которого совесть по ночам не мучает. Или мучает так сильно, что он пользуется любой возможностью от неё отдохнуть.
Антон слегка откинулся в кресле. Впереди были ещё часы полёта и неизвестно сколько дней слежки. Нужно было беречь силы.
***
В аэропорту Иркутска Антон наблюдал за инцидентом с чемоданом и еле сдержал улыбку. Эти трое были такими… трогательными в своей неопытности. Любители. Они и понятия не имели, с какими силами решили помериться.
Антон держался на расстоянии, но не терял их из виду. Когда они договаривались с водителем Toyota Land Cruiser Prado, он вышел на улицу и быстро поймал такси.
– Видите ту машину? – он указал таксисту на отъезжающий внедорожник. – Следуйте за ней. Только держите дистанцию.
– Вы что, шпион? – хмыкнул таксист, мужчина лет сорока с колючей щетиной и зоркими, насмешливыми глазами.
– Нет, – спокойно ответил Антон. – Частный детектив. Слежу за неверным мужем по заказу жены.
– А-а, – понимающе протянул таксист. – Эти туристы часто так. Приезжают на Байкал и думают, что тут край света и их никто не найдёт.
«Если бы ты знал», – подумал Антон, но вслух сказал: – Именно. Поэтому нужно быть незаметными.
Land Cruiser уже выезжал со стоянки. Таксист не спеша завёл мотор и потянулся к радио.
– Вы не против музыки?
– Не против, – кивнул Антон. – Только не слишком громко.
Такси тронулось. Начиналась дорога до Листвянки. Антон держал в поле зрения внедорожник, который ехал впереди метрах в ста. Не слишком близко, но и не так далеко, чтобы его потерять.
Дорога петляла между холмами. За окном мелькали сосны, укрытые лёгкой дымкой. Обычно Антон не обращал внимания на пейзажи – не до того было. Но было что-то в этих местах… какая-то первозданная сила и покой. Что-то, отчего хотелось дышать глубже и думать о вещах, выходящих за рамки повседневных забот.
«Это всё усталость, – одёрнул он себя. – Нельзя расслабляться».
– Красиво, да? – спросил таксист, заметив его взгляд. – Многие говорят, что Байкал – место силы. Я сначала не верил. А потом понял – правда. Что-то есть в нём такое… необъяснимое.
– Сказки, – отрезал Антон.
Когда Land Cruiser свернул на просёлочную дорогу, ведущую к посёлку, Антон попросил таксиста остановиться.
– Дальше я пешком, – сказал он. – Здесь слишком заметно.
– Как скажете, – кивнул таксист. – Может, телефон оставить? Если понадоблюсь.
– Не стоит, – покачал головой Антон. – Я справлюсь.
Он расплатился, добавив щедрые чаевые, и вышел на обочину. Подождал, пока такси скроется за поворотом, и двинулся вперёд. Он был в отличной форме и мог долго идти быстрым шагом, не уставая. Дорога шла под уклон, и вскоре показались первые дома Листвянки.
Антон замедлил шаг и осмотрелся. Маленький посёлок, растянувшийся вдоль берега. Туристический сезон ещё не начался, и улицы были почти пусты. Это усложняло задачу – слишком легко выделиться среди немногочисленных местных. С другой стороны, он мог видеть почти весь посёлок с холма, на котором стоял.
Он достал из кармана небольшой бинокль и осмотрел местность. Land Cruiser заметил почти сразу – тот стоял у небольшого деревянного дома на склоне холма. Трое наблюдаемых как раз выгружали вещи. Антон отметил расположение дома и прикинул наилучшую позицию для наблюдения.
Опустив бинокль, он обошёл посёлок по краю леса и вышел к небольшой гостинице. Непримечательное трёхэтажное здание с вывеской «Лусуд-Хан Отель». Идеальное место – отсюда открывался вид на дом, где поселились подопечные.
В гостинице было пусто. За стойкой дремала пожилая бурятка с усталым лицом и волосами цвета перезрелой рябины.
– Здравствуйте, – сказал Антон. – Нужен номер на несколько дней.
– Паспорт, – не открывая глаз, сказала женщина.
Антон достал паспорт. Конечно, не настоящий. Для таких дел у него был комплект документов на разные имена. Сейчас он был Павлом Руденко, менеджером из Екатеринбурга.
Женщина открыла глаза, лениво взяла паспорт, так же лениво внесла данные в потрёпанный журнал.
– Номер на втором этаже, с видом на озеро. Завтрак с восьми до десяти. Оплата вперёд.
Антон расплатился и взял ключ. Поднялся в номер – маленькую, но чистую комнату с узкой кроватью, столом и шкафом. Главное – из окна открывался вид на домик, где остановились наблюдаемые.
Он достал из сумки фотоаппарат с мощным зумом и установил его на штатив у окна. Настроил, сделал несколько пробных снимков. Затем достал ноутбук, подключил к нему камеру и запустил программу, которая с заданным интервалом в две минуты делала серию снимков и сохраняла их в зашифрованную папку.
Он видел, как троица освоилась в доме. Видел, как ушёл местный, что их привёз. Видел, как они стояли у окна, глядя на Байкал.
***
Утро выдалось морозным и на удивление солнечным. Лучи, пробивавшиеся сквозь мохнатые лапы сосен, плясали по стенам весёлыми зайчиками. Я проснулся от ощущения, будто кто-то настойчиво прикладывает к моей спине кусок льда – это сползшее на пол одеяло вероломно открыло доступ утреннему холоду.
Гриша уже не спал. Он сидел на кухне, красный, как снегирь, закутавшись в свитер, и таращился в окно с видом философа, постигшего тщетность бытия, но не нашедшего в этом ни малейшей радости.



